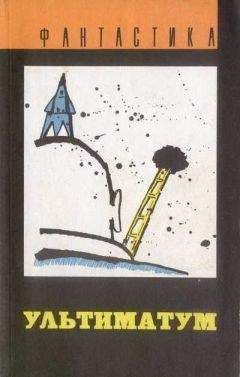В тот же день под вечер зашёл его навестить ефрейтор Андронников. И от Андронникова Ваня узнал, что спасла его собака Майка Младшая, специально натренированная на розыск и вынос с поля боя раненых бойцов. Это она принесла Ване санитарную сумку, она же привела упряжку лопарских овчарок и вывезла Ваню в расположение наших войск.
— Мы же тебя, тёпа этакий, три с половиной часа искали, — рассказывал Андронников. — Главная беда — след запорошило. Тут хоть с фонарём ищи — не найдёшь. Если б не Майка — каюк тебе.
— А вы кричали? — спросил Ваня.
— Кричали.
— Я слышал.
— Что ты слышал?
— Слышал, как вы кричали.
— Так чего ж ты, мочалка этакая, молчал, если слышал?
— Боялся, что это не вы, а фрицы ходят.
Ефрейтор подумал, похмурился и сказал:
— Правильно действовал.
От Андронникова же Ваня узнал, что его, как и остальных разведчиков, командование за поимку «языка» представило к награде. Ваню это, конечно, порадовало, но думать об этом долго он сейчас не мог. Помолчав, он спросил, можно ли ему будет навестить собаку Майку.
— А что ж… Почему? Валяй. На выписку пойдёшь — и заходи. Они тут же, кажись, при медсанбате находятся, эти собачки. Что — спасибо ей сказать хочешь? — усмехнулся Андронников.
— Да, хочу, — сказал Ваня и покраснел, как маленький.
В госпитале ему пришлось пролежать ещё двенадцать дней. Всё это время он думал о Майке. И думал о том, как он с нею встретится.
От каждого завтрака и ужина Ваня откладывал и прятал в коробку из-под табака кусочки сахара, печенья и шоколад. С этой картонкой, перевязанной обрывком бинта, он и отправился, сразу же после выписки, навещать Майку Младшую.
Он не застал её. Ему сказали, что собака ушла с проводником на учебную тренировку. Ваня решил подождать. Сняв шапку и расстегнув полушубок, он сидел на ступеньке крыльца, грелся на весеннем солнце, слушал, как урчит в водосточной трубе вода и как возятся, притворно сердито рычат за невысоким дощатым заборчиком молодые служебные собаки.
Наконец хлопнула калитка, и Ваня увидел Майку.
Натягивая поводок, рыжая собачка устремилась в угол двора, где лежало перевёрнутое, изгрызенное собачьими зубами деревянное корытце. Вёл Майку, почти бежал за ней, проводник, густобровый человек в кожаной куртке.
— Майка, фу! — закричал он на собаку и, повернувшись к Ване, строго спросил: — Вы к кому?
— Я — к ней, — сказал, поднимаясь, Ваня.
— Фамилия?
— Потапов.
— А, — равнодушно сказал проводник.
Увидев, что корытце пустое, Майка оставила его, подбежала к Ване, обнюхала его валенки, помахала пушистым хвостом… И сразу же забыла о Ване, кинулась на грудь своему сердитому начальнику, заюлила, запрыгала, заскулила о чём-то.
— Ладно, ладно, — проворчал проводник, отстёгивая карабин и освобождая собаку от поводка. Она ещё раз подбежала к Ване, ещё раз понюхала его валенок и помчалась, делая большие круги, по двору.
— Не узнала, — сказал со вздохом Ваня.
— Как это не узнала? — мрачно усмехнулся проводник. — Очень даже узнала.
Ваня стоял посреди двора и не знал, как ему быть. Совсем не таким представлялось ему это свидание.
— Конфетками угостить её можно? — спросил он проводника.
— Что ж… попробуй.
Ваня вывалил из своей коробочки на снег сахар, печенье и шоколад и позвал собаку:
— Майка… Маечка… возьми… на!
Майка подбежала, быстро обнюхала сладости и села рядом, высоко задрав свою обезьянью мордочку.
— Не ест?! — удивился Ваня.
Проводник посмотрел на него презрительно.
— Ты слово такое «воспитание» знаешь?
— Слыхал, — ответил Ваня.
Проводник отвернулся и, не глядя на собаку, совсем тихо, почти не открывая рта, сказал:
— Майка, можно.
Собака вскочила, цокнула зубами и кинулась к Ваниному гостинцу.
Через минуту твёрдый как камень кусковой сахар грозно хрустел в её молодых зубах. А когда Майка расправилась с Ваниным подарком, она посмотрела ему в глаза и вежливо помахала хвостом. Потом взбежала на крыльцо, удобно там улеглась, уткнулась мордочкой в лапы и прикрыла глаза.
Ваня вздохнул и конфузливо посмотрел на проводника.
— Да нет, не узнала, — сказал он печально.
— Обиделся, да? — сказал проводник.
Он посмотрел на Ваню и в первый раз по-хорошему улыбнулся.
— Эх, солдат, солдат, — сказал он. — Вас, дорогой ты мой, тысячи, а она — одна!..
1943–1976
Когда мы с Васей были маленькие, мы были, как теперь говорят, трудные дети. Попросту говоря, мы были порядочными хулиганами. И у нас не уживалась долго ни одна нянька. Теперь я не удивляюсь этому. Стыдно признаться, но был случай, когда одну неполюбившуюся нам няньку мы с Васей пробовали поджечь. Да, самым настоящим образом. Спрятались за папиным книжным шкафом, дождались, когда эта женщина пойдёт мимо, плеснули ей на подол керосина и бросили зажжённую спичку. Запылавшую юбку удалось потушить, но нянька в тот же день попросила у нашей мамы расчёт.
Хулиганили мы, как я теперь понимаю, от безделья. И главным образом тогда, когда нашего папы не было дома, когда он уезжал куда-нибудь по своим лесоторговым делам. А бездельничали мы потому, что не знали, куда девать силы. Я ещё не научился как следует читать, кое-как читал только вывески над магазинами. А Васе — тому, вероятно, было всего два-три года.
Няньки у нас менялись, как полотенца на кухне. А может быть, и чаще.
И вдруг в один зимний, кажется, день у нас появилась очень умная, я бы даже сказал гениальная, нянька, или бонна, как называли себя тогда для важности некоторые интеллигентные няни.
В первый же день, а может быть, в первый час пребывания в нашем доме этой особе удалось нас укротить. Что же она сделала? Она сказала:
— Известно ли вам, дети, что мальчику или девочке, которые соберут сто почтовых марок и пошлют их в Китай, оттуда вместо марок пришлют живого китайчонка или фарфоровый чайный сервиз?
Конечно, у нас глаза у обоих загорелись. Ещё бы! Живой китайчонок! Или фарфоровый сервиз!
— А где их столько взять, эти сто марок? — спросил я у бонны.
— Я думаю, в вашем доме, как и во всяком другом, имеются альбомы для почтовых карточек…
Да, такие альбомы у нас, конечно, имелись. Не один, не два, а несколько. Они лежали в так называемом художественном беспорядке на круглом столике в гостиной. Были они большей частью плюшевые, с металлическими уголками и с металлическими застёжками.
И вот мы с головой погрузились в это выгодное и увлекательное занятие — стали собирать по сто марок.
Никто нами не руководил, никто не наблюдал за нами. Круглый столик покрыли старыми газетами, поставили на стол блюдечко с водой и сказали:
— Работайте.
И мы с утра до вечера, день за днём сидели и трудились.
Совсем не помню я эту мудрую бонну, даже имени её не запомнил, но круглый столик под бархатной тёмно-лиловой скатертью, альбом, открытки, марки — всё это, как сейчас, перед моими глазами.
Открытки в альбомах мы и раньше разглядывали. Но это было не так уж интересно. На открытках были изображены главным образом дома, улицы, церкви или целые города, на других — цветы, больше всего почему-то жёлтые и красные розы. Чуть-чуть интереснее других были поздравительные — пасхальные и рождественские — открытки. Например: из большого раскоканного яйца, на котором золотом написано Х. В. (то есть Христос воскресе), вылезают и целуются господин в цилиндре и дама в широкополой шляпе с перьями. Была и другая пасхальная открытка, ещё интереснее. Она была очень толстая, пухлая. На ней — тоже в расколотом яйце — сидел большой, ярко-жёлтый, мягенький на ощупь цыплёнок. Когда на цыплёнка нажимали, он по-настоящему пищал. Но вероятно, мы с Васей так часто нажимали на этого несчастного цыплёнка, что пищать он уже давно разучился.
Впрочем, теперь нас интересовала другая, оборотная сторона открыток — та, где были наклеены марки, где было что-то написано и где я с грехом пополам мог прочесть хотя бы адрес:
«С.-Петербургъ. Набережная рѣки Фонтанки, д. № 140, кв. № 1. Его Высокоблагородiю Ивану Афанасьевичу Еремѣеву».
Или:
«Александрѣ Васильевнѣ М-llе Спѣхиной».
Марки были всякие. Разноцветные. Пёстрые. Тусклые. Большие. Маленькие. Вертикальные. Горизонтальные. Были такие, где я ничего не мог прочесть. Буквы были знакомые, похожие на те, что я уже знал, а понять, что там написано, было невозможно. На этих марках изображены были женские и мужские профили. У некоторых на голове красовалась корона. Нетрудно было понять, что это короли и королевы. Попадались и другие женщины — не с коронами, а в шапочках, похожих на пожарную каску, с гребнем вроде петушиного, только каски эти были не золотые, а красные. На двух или трёх марках нарисованы были горбоносые мужчины с бакенбардами, на одной — статуя женщины с высоко поднятым факелом…