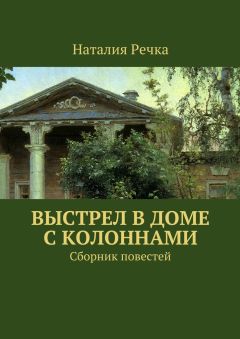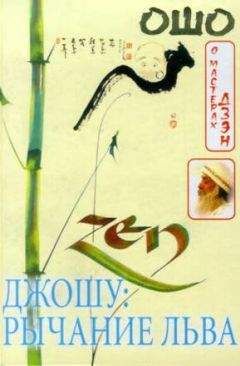Алешка с Васей погрузили выделенную долю книг, распрощались, пожелав удачи, с товарищами и двинулись к пункту своего назначения, за восемнадцать верст.
Раскачивалась на хлипких колесах телега, месили мокрый дорожный снег лошадиные копыта, где-то далеко лаяли собаки. Ребята, полулежа, прикрытые тяжелой, крепко пахнущей овчиной, смотрели в кромешную темноту и рассуждали.
— Васька, вот нас с тобой завтра избач в читальню поведет. Молодежи и старикам представит. Да?
— Чудило, «представит»! Что мы, артисты или полпреды? Просто скажет: «Уважаемые товарищи будущие колхозники, это наши друзья из столицы, да здравствует смычка города и деревни, они нам литературу привезли, а сейчас прослушайте лекцию: на земле никогда никакого Иисуса Христа не было и не будет!»
— Э, нет. Ты все в одну кучу свалил. Молодежь, стариков, смычку, Иисуса… Тут тонкий подход нужен. Дарья Кузьминишна вон своя, и то ей так нельзя сразу — бога на свете не было.
— А как же еще?
— Я бы, например, сказал так… — Алешка повозился, лег на соломе удобнее, паренек-возница крикнул: «Н-но, толстобрюхая!» — и повернулся, прислушиваясь. — Я бы начал хитро: «Дорогие товарищи будущие колхозники! Который у нас с вами теперь год по летосчислению или как это называется?»
— Ясно, который: одна тысяча девятьсот двадцать девятый, — ответил за будущего колхозника Васька.
— Верно. И каждому известно, факт? А вот с какого именно времени эту самую тысячу девятьсот двадцать восемь считать?
Васька молчал.
— Вдруг мне какой-нибудь древний дед и пробубнит: «С года рождения сына божьего Иисуса Христа». Тогда я: «А откуда вы, дедушка, знаете, что было, в общем, именно такое рождение? Что бог — понимаешь, бо-ог! — мог взять и родить себе, как все равно простой смертный человек, сына?» Доходит?
Васька крякнул.
— Я б, Алешка, может, тоже так начал. А дальше взял и свернул: «Дорогие товарищи, у меня есть дельное предложение — считать летосчисление, то есть года, совершенно по-новому, по-передовому: с Великой нашей Октябрьской революции тысяча девятьсот семнадцатого года. Следовательно, первый год — в семнадцатом году, а мы с вами находимся сейчас в… двенадцатом году новой социалистической эры!» Доходит?
Теперь крякнул Алешка.
— Нет, не доходит. Значит, все прошлые года начисто зачеркнуть? А как же, положим, такие ответственные события, как раскрепощение крестьянства? Или там, в общем… Парижская коммуна?
Ребята замолчали. Паренек-возница опять крикнул:
— Н-но, толстобрюхая!
— А у вас в деревне изба-читальня большая? — спросил Алешка. — Вообще народу сколько?
— Читальня у нас большая, — сипло ответил возница, — только она не изба. В бывшем помещичьем доме расположена. И книжек больно мало. Народу в деревне человек… — Он помолчал. — Точно не знаю, надо сосчитать. А избача сейчас вовсе нету. Читальня на замке. Ходит туда учитель старенький и фершалка-комсомолка, книжки неграмотным вслух читают. А избача в драке ножом сильно поранили.
— Кто поранил?
— Еще не дознались. Одни говорят, в драке, другие — будто подстроили все загодя… У нас в кресткоме кулак один отчаянный пролез, свояков за собой тащит… А комсомольцев всего пятеро — тот избач, фершалка, я да еще двое. Только насчет бога мой вам совет: половчее как-нибудь к нашим старикам подъезжайте. Как бы и вам по шее не наклали. — И возница снова пронзительно заорал: — Н-но, толстобрюхая! Теперь уже скоро приедем. Вон огоньки светятся, видите?..
ОТ ЛЕНЫ К ДИНЕ
«Динка, здравствуй, Диночка моя!
Если бы ты знала, как мне надо поговорить с тобой! Мне все время хочется петь, и я не знаю почему!
Динка, помнишь, мы с тобой еще в детдоме ходили один раз в кино „Карнавал“ на Арбате, там шла такая картина „Пробуждение женщины“? И ты сказала, что если кто-нибудь когда-нибудь влюбится, то всегда так поступает. Вот сейчас, кажется, появился человек, который ко мне так относится. Его зовут Всеволод Рогожин, ему уже двадцать два года. Ты его видела летом, когда вы с Алешей и Васей приезжали в Боровиху, и, я знаю, запомнила. Он тебе тогда не понравился, но, Динка, это не так, не так! У него какое-то или разочарование, или еще что-то, я многого не понимаю, но мне так интересно и загадочно, знаешь? Всеволод тоже работает в Отовенте, а живет с отцом. И мамы тоже нету. Понимаешь, какое совпадение? Динка, почему же ты не приходишь, я просто не могу больше терпеть без тебя! Ты не думай, у нас с ним ничего не было, мы только несколько раз ходили в кино, в „Эрмитаж“, а последний раз в цирк. Еще Всеволод приносил мне цветы, такие мохнатые, называются хризантемы, и конфеты, а когда Ольга Веньяминовна велела пригласить его к нам домой, подарил настоящие духи. Я сперва не хотела брать, но Ольга Веньяминовна сказала, что это невежливо. И еще сказал, что скоро будем ходить на каток, только надо обязательно купить гаги, а не снегурки (снегурки у меня старые есть, помнишь, Марья Антоновна дала с собой).
Динка, меня уже перевели из учениц в копировщицы, и оклад стал тридцать два рубля. У нас в Отовенте непрерывка. Ужасно интересно, вывесили календарь, суббот и воскресений нету, кончается на пятницу, во всех месяцах по тридцать дней! Только плохо, что гуляют все поврозь, у Всеволода свободный день другой. В Отовенте все чертежницы в него влюблены, смотреть противно…
А дома у нас стало совсем по-другому. Николай Николаевич ходит мрачный, у него в тресте началась какая-то проверка, это я слышала потихоньку. А если и смеется, то вовсе не смешно. Недавно пропала его любимая кошка, и Ольга Веньяминовна решила, что это дурная примета. Знаешь, что она говорит про Всеволода: „Вдруг это твоя (моя) судьба?“ Ладно, не буду, ты, конечно, закричишь, что это мещанство и глупость. Нет, Динка, большое чувство никогда не мещанство! А мне иногда кажется, что у Всеволода оно как раз большое, он говорит такие необыкновенные слова… Не ругайся, что я так пишу, ладно?
Динка, ко мне заходила нянечка, рассказывала, что Марья Антоновна тебя страшно ругала, что ты ушла с фабрики. А потом решила, что тебе даже полезно пожить у этой твоей художницы. Какая она? Мне интересно и хочется к вам, только все некогда, то Всеволод придет, то мы идем куда-нибудь. Знаю, я глупая девчонка, что-то завертело меня сейчас, но я ничего не могу поделать и разобраться!
Вася с Алешей к нам приходили, но я их не видела. Потом стал приходить один Вася. Мотоцикл Николая Николаевича они починили, но он говорит, сейчас не до него. Вася стал довольно часто приходить. По-моему, у него к нашей Найле что-то похожее, как у Всеволода ко мне, понимаешь? А вот Алеша почему-то больше не приходит. Совсем. Ни одного разочка!
Динка, Динка, я пишу тебе про все как попало, потому что мне все время хочется петь. А сейчас вдруг вспомнился наш детский дом, и угол в зале между шкафами, и сломанная яблоня, и как мы жили в Уваровке, всё, всё… И вдруг стало так грустно, так грустно, кажется, прямо зареву. Отчего это?..»
Письмо осталось неоконченным, Дина в таком виде и получила его. А с того ноябрьского вечера, когда Лена его писала, начались события, во многом опять изменившие ее жизнь.
В НОЧНОЙ ЧАС
Очень надолго запомнила Лена эту странную, заставившую ее о многом задуматься ночь.
Утихли за тяжелыми шторами окон городские шумы. Найле домыла и убрала на кухне посуду. Приняв ванну, разошлись по своим комнатам Ольга Веньяминовна с Николаем Николаевичем. В столовой певуче пробили часы, двенадцать раз. Неожиданный звонок слился с последним ударом. Лена подняла с подушки голову, прислушалась. Кто бы мог быть так поздно?
Скрипнула дверь из кабинета, тотчас из спальни. Послышался тревожный шепот, отрывистые слова Ольги Веньяминовны:
— Николай, если они… Ты должен задержать, задержи!..
Торопливо прошлепала из кухни Найле. Николай Николаевич повелительно бросил:
— Пока не открывай, понятно?
И почти сразу отворилась дверь Лениной комнаты. Быстро, бесшумно вошла Ольга Веньяминовна. Она была в халате, с наполовину распущенными волосами, очень бледная. К груди прижимала небольшой цветной мешочек.
— Лена, — сказала Ольга Веньяминовна шепотом, как бы задыхаясь от бега. — Слушай меня внимательно и ни о чем не спрашивай. Спрячь вот это себе под матрац. Если к тебе зайдут, ты ничего не знаешь. Говори только, взята из детдома на воспитание, живешь хорошо, всем довольна…
Лена, почти ничего не понимая, начала мелко дрожать. Волнение тетки передалось ей, хотя та не дрожала, только всегда невозмутимое, ясное лицо исказили торопливость и страх.
— А кто может зайти? Зачем? Там пришел кто-нибудь чужой?
Лена уже сидела на кровати, свесив ноги. Голые плечи студил сквозняк. В передней вторично звякнул звонок. Найле, гремя цепочкой, открывала наружную дверь. Незнакомый мужской голос спрашивал что-то.