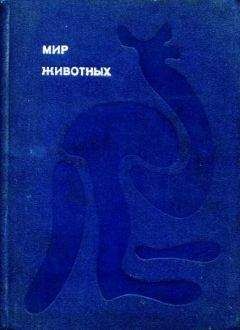Ближе к лету Яшку переселили в пристройку, в которой обычно держали поросёнка. К этому времени Яшкина пушистая шёрстка превратилась в блестящие завитки, его взгляд стал более осмысленным, а на лбу появились бугорки. Пробивающиеся рожки чесались, и Яшка всё время лез ко мне бодаться. Припадал на передние ноги, качал головой — явно вызывал помериться силами. Я становился перед ним на корточки, и мы упирались лбами друг в друга. Побеждали попеременно, и надо отдать Яшке должное: когда он наседал и я кубарем скатывался под уклон бугра, он никогда не подскакивал и не бил сбоку — ждал, пока я поднимусь и приму оборонительную позу. В нём было какое-то врождённое благородство.
Позднее, когда у Яшки появились рожки, случалось, он не рассчитывал свою силу, и тогда мы ссорились. Например, издаст предупредительный клич, разбежится, скакнёт и летит на меня, наклонив башку. Я, конечно, отпрыгивал в сторону, и Яшка врезался в кусты, но, бывало, я не успевал увернуться, и Яшка больно бил меня в живот. Тут уж я не выдерживал и тоже поддавал ему как следует. Долго мы не дулись, Яшка первым подходил, клал голову на мои колени, виновато подёргивал хвостом и теребил ботинок копытцем: брось, мол, стоит ли ссориться из-за мелочей, ведь мы друзья! Такой ласковый был козлёнок.
В полдень я ненадолго оставлял Яшку одного: привязывал его верёвку к вбитому в землю колышку и шёл домой обедать. С обеда я притаскивал ломоть хлеба, картошку, морковь — Яшка всё уминал, и мы спускались в посёлок.
Прежде всего мы подходили к сапожнику дяде Коле, он работал в своём доме у открытого окна и брал обувь прямо с улицы. Зажмёт между колен железную лапку, сидит себе на табуретке и вколачивает в башмак гвозди один за другим. Воткнёт гвоздь наискосок, чтобы лучше входил, и вколачивает, а другой держит во рту наготове, губами за шляпку. Прибьёт подмётку, поставит башмак на деревянную плашку и отрежет лишнюю кожу. Нож у него был широкий, из пилки; резал кожу мягко, как масло. Потом обточит ботинок на наждаке, промажет краской — и всё это мастерски, легко, играючи. Дядя Коля слыл виртуозом, потому что вкладывал в работу всю свою любовь к кожевенному ремеслу. Мы с Яшкой всегда подолгу простаивали около дяди Колиного окна: я наблюдал за его работой, а Яшка дожидался капустной кочерыжки, которую дядя Коля всегда припасал для моего козлёнка.
Что меня больше всего поражало, так это умение дяди Коли по обуви угадывать наклонности хозяина. Подаст ему какая-нибудь старушка сбитый ботинок, а он посмотрит и скажет:
— Что он у вас — футболист?
И старушка сразу закивает:
— Житья от него нету. Отец только на обувь и работает. Вторые за месяц сбил… да ещё штраф за разбитые окна заплатила…
Или принесёт какая-нибудь девчонка сандалии, дядя Коля проведёт пальцем по стёртым носам и улыбнётся:
— Танцовщицей, наверно, хочешь стать?
И девчонка кивнёт, опустит глаза и покраснеет. Дядя Коля мог определить, кто ходит прихрамывая, кто косолапит, кто ходит красиво…
Дядя Коля был родом из Белоруссии, во время войны партизанил, после ранения его эвакуировали в Заволжье. Низкорослый, худощавый, он носил очки и при ходьбе сутулился. Он жил в старом доме с обшарпанными стенами, зато его яблоневый сад считался лучшим в посёлке. Сад огораживали высокие колья, похожие на гигантские карандаши. У широкой калитки, в которую свободно въезжал грузовик, спал огромный, как медведь, пёс Артур. Такие внушительные бастионы и стражу дядя Коля завёл вовсе не для охраны фруктов — просто, как многие люди маленького роста, он любил всё высокое.
Под осень мы залезали в сад, трясли яблони, предварительно выманив Артура на улицу жмыхом — он ужасно его любил. Каждый раз после этих набегов дядя Коля рассказывал нам о каких-то мальчишках, попортивших в саду деревья, и подробно объяснял, как можно собрать фрукты, не поломав ветвей. Бывало, в эти минуты подбегал Артур и небольно покусывал наши ботинки — он-то чуял, чья обувь истоптала сад.
У Яшки с Артуром были вполне дружеские отношения: заметив козлёнка, пёс вставал, потягивался, приветливо размахивал хвостом, подходил вразвалку и покровительственно лизал Яшку большим шершавым языком. А иногда, в знак высшего расположения, притаскивал козлёнку обмусоленную кость. Конечно, не обходилось без размолвок. Случалось, Яшка забывался и начинал объедать флоксы около дяди Колиного дома. Тогда Артур скалился и рыкал, а Яшка сразу вставал на дыбы.
Дядя Коля любил мне что-нибудь рассказывать. Чаще всего о том, как он будет жить, когда станет лесником.
— Вот выйду на пенсию, сад оставлю посельчанам, сам с Артуром переберусь на природу. У нас ведь здесь всё ж заводской посёлок, а я хочу жить поближе к земле, к зверью. Устроюсь куда-нибудь лесником на кордон, построю дом из ветвей и травы и крышу из хвои, буду приручать зверюшек…
Однажды мы с Яшкой подошли к дяде Коле, он кивнул мне, кинул Яшке кочерыжку и стал молча подшивать валенок: прокалывал шилом дырочки и протягивал просмолённую дратву. Подшил подошву, начал пробивать её деревянными гвоздями, чтобы лучше держалось, когда гвозди разбухнут. С полчаса работал и всё молчал. «Что ж такое случилось? — думаю. — Может, обиделся на нас с Яшкой за что?» А дядя Коля починил валенок и посмотрел на меня поверх очков:
— Давай сними-ка ботинки.
— Зачем?
— Подбить надо. Того гляди, пальцы вылезут.
— У меня денег нет, — пробурчал я.
— Снимай, говорю! — нахмурился дядя Коля.
Я нагнулся, стал развязывать шнурки.
Починил дядя Коля мои ботинки, промазал краской, стали ботинки как новенькие. Надел я их, а дядя Коля вздохнул:
— Был у меня такой вот сынишка, как ты… Расстреляли его немцы вместе с моей жинкой… Вывели во двор и… Прямо на моих глазах. За то, что укрывали нас, партизан. А меня повесить хотели, да не успели — наши на хутор ворвались… Всё мечтали мы с пацаном податься в лесничество, построить дом из ветвей и травы и крышу из хвои, приручать разных зверюшек…
От дяди Коли мы с Яшкой направлялись к «крокодилихе» — так звали тётку Груню за то, что она свои владения от мальчишеских набегов огородила плотным забором и ещё установила дополнительные барьеры — насажала крапиву и репейник. В её палисаднике росло множество цветов: георгины, пионы, гвоздики, табак. Время от времени мы посылали в палисадник бумажных голубей с угрожающими записками, а по воскресеньям, когда тётка Груня уезжала в город, пролезали через забор, срывали головки цветов и, играя в войну, раздавали цветы как ордена.
Георгин считался орденом Красной Звезды, пион — орденом Александра Невского, гвоздики и колокольчики — разными медалями. Отмечали друг друга щедро, даже за готовность к подвигу. В петлицах наших рубашек красовалось столько наград, что позавидовал бы любой фронтовик. После каждого воскресенья клумбы заметно редели. Обходя кусты, «крокодилиха» только вздыхала и качала головой, а мы посмеивались и всё больше смелели забирались в цветник и в будни по вечерам…
Около палисадника мы с Яшкой останавливались, находили лазейку, я срывал несколько бутонов, а Яшка как бы невзначай объедал пару георгинов ему очень нравились эти яркие цветы. Он вообще любил всё яркое: изумрудную траву у болотца и ромашки на бугре, красную колонку посреди посёлка, из которой всегда лилась струя, точно перекрученная стеклянная верёвка. Он подходил к колонке, почёсывал об неё бока, наклонялся к деревянному жёлобу и долго пил прохладную воду, бегущую среди гальки и тины. И красную тесьму Яшка предпочитал обычному холщовому поводку. А когда я раздобыл ему медный колокольчик он перед всеми задирал голову и хвастался своим ярко-жёлтым украшением.
Однажды в середине лета, когда Яшка уже сильно подрос, мы с ним пролезли в палисадник. Я стал тянуть какой-то венчик, а Яшка принялся за георгин. Вдруг перед нами возникла «крокодилиха». Яшка сразу сдрейфил и дал стрекача, рассыпая чёрные горошины, а я от страха онемел, точно обмороженный, даже не успел спрятать цветок за спину; нагнул голову и жду наказания. Но «крокодилиха» неожиданно глубоко вздохнула.
— Что же вы делаете? Я ж букеты в детский дом отвожу. Детишкам, у которых родители погибли на фронте. А вы?! — Она махнула рукой, подошла к калитке, распахнула её. — Зови своих дружков. Дорывайте!…
С того дня «крокодилиха» снова стала тёткой Груней, и хотя калитка в её палисадник больше не запиралась — никто не сорвал ни одного цветка. Даже Яшка обходил палисадник стороной — такой сообразительный был козлёнок!
На окраине нашего посёлка пролегало шоссе — наполовину асфальтированная, наполовину мощёная дамба. По ту сторону дамбы находилась керосиновая лавка, каморка утильщика и мастерская по ремонту замков, примусов, патефонов и прочего. За мастерской начиналась городская свалка. Её называли городской, несмотря на то что город находился в семи километрах от нашего посёлка. Видимо, городские власти рассматривали наш посёлок как никчёмное место, годное лишь для хлама.