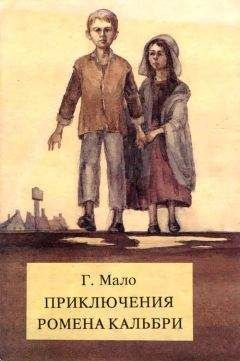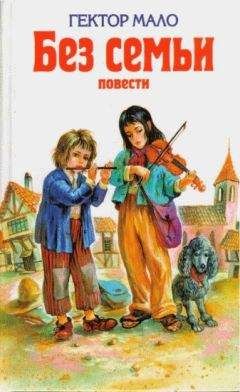Ознакомительная версия.
Я решил справить себе экипировку к предстоящему плаванию, потому что моя страсть к морю и страх перед дядей все еще не прошли. Оставшись один на покинутом «Ориноко», когда я попал в вихрь разъяренных волн, и они бросали меня о берег так, что я рисковал потонуть ежесекундно, мне приходили в голову очень грустные вещи, и судьба людей, живущих на суше, казалась мне много счастливее жизни моряков, но, отделавшись от всех этих ужасов, впечатления утратили свою остроту и растаяли под первым лучом солнца.
В Гавре я только и думал, чтобы найти корабль, на который меня приняли бы юнгой. Хозяин «Ориноко» обещал, наконец, взять меня на «Амазонку», а деньжонки на расходы для путешествия у меня теперь были. Надо было ждать еще две недели отплытия «Амазонки» в Бразилию.
Между тем за это время случилось вот какое новое обстоятельство: во время моей встречи с Германом я провел в его квартире несколько ночей. Это была жалкая комнатка в глубине широкого двора, очень темного и очень грязного. Хозяйка Германа сдала мне его комнату на две недели охотно, но не взялась меня кормить. Она была очень болезненная женщина и такая слабая, что с трудом могла приготовить поесть даже для одной себя.
За последнее время я привык голодать и есть что попало, поэтому вопрос об обеде меня совсем не беспокоил: было бы хлеба вволю — вот я и сыт. Со мной она обходилась так ласково, так заботилась обо мне, точно я был ей сын родной. По всему было видно, что эта превосходная женщина меня очень жалела. Может быть, особенно потому, что у ней самой был единственный сын, приблизительно моих лет, которого она горячо любила.
Восемь месяцев тому назад он уехал на корабле в Индию — в Калькутту, и бедная мать со дня на день ожидала с нетерпением его возвращения на «Нестрии» (так звали корабль). Я находил, что между нею и моей матерью было много общего. Она так же, как и матушка, ненавидела море, боялась его, боялась, что сын, увлеченный морской жизнью, уйдет в моряки навсегда, и она останется одинокой доживать свой век.
Муж ее умер от желтой лихорадки в С. Доминго, вдали от родины и от семьи, и она с отчаянием в душе отпустила теперь сына в далекое плавание в виду его неотступных просьб.
Одно утешало ее, что, может быть, это первое путешествие, трудное и не особенно удачное, излечит его от страсти к морской жизни, и что он не вернется больше на корабль. С каким страстным нетерпением она ожидала этого сына!
Поэтому когда я возвращался с набережной (а я проводил там почти все свое время), она всякий день меня расспрашивала: какова погода, откуда дует ветер и много ли пришло в гавань судов. Путешествие в Индию было очень продолжительно, неопределенно и опасно. «Нестрия» могла вернуться не нынче-завтра, но также точно и через две, три недели, даже и через месяц.
Дней десять я, таким образом, прожил у нее, как вдруг ее болезнь резко изменилась к худшему. Соседки говорили, по словам врача, что жизнь ее находилась в опасности, и что он не ручался даже за несколько дней. Верно, это так и было, потому что она с каждым днем слабела, бледнела, и всякий раз, когда она звала меня, чтобы узнать, какова погода и море, и не вернулась ли, роковая для нее, «Нестрия», мне при виде ее невольно становилось страшно. Она казалась еле-еле живой.
После периода страшных бурь, во время которых погиб «Ориноко», наступило затишье. Небо сделалось безоблачным, точно среди лета, и море было до того спокойно, каким оно бывает вообще довольно редко. Этот штиль приводил в отчаянье нашу больную.
Мне поневоле приходилось всякий день повторять одну и ту же фразу: нет ветра, или маленький восточный.
Тогда она грустно покачивала головой в ответ и прибавляла: «Господь ко мне немилостив, верно, мне суждено умереть, не повидавшись перед смертью с дорогим моим мальчиком!»
Приятельницы-соседки всячески уговаривали бедную женщину не предаваться мрачным мыслям, не думать о смерти, они старались уверить, что ей не грозит никакая опасность, и вообще прибегали к той невинной лжи, которую так часто говорят умирающим. Но она продолжала терзаться ожиданием и неизменно повторяла: наверно, мне не суждено больше с ним свидеться на этом свете и поцеловать его и благословить перед вечной разлукой.
При этом она начинала так отчаянно рыдать, что и сам я не мог удержаться от слез. Когда доктор сказал, что болезнь безнадежна, и она скоро должна умереть, не нынче-завтра, — мне становилось страшно входить к ней в комнату.
Однажды утром, это было во вторник, я пошел, как всегда, справиться, не пришла ли «Нестрия», а когда вернулся домой, соседка, дежурившая при ней, тихонько поманила меня и шепнула на ухо: доктор сказал, что она не переживет сегодняшней ночи. Я долго не решался войти, и даже снял сапоги у дверей, чтобы не стучать, но она все-таки узнала мои шаги.
— Ромен, — позвала она слабым голосом.
Я вошел, одна из ее сестер сидела в это время у постели и сделала знак, чтобы я подошел. Больная посмотрела мне в глаза таким взглядом, какого я никогда не забуду.
— Все то же самое, погода не меняется? И ветра нет?
— Нет.
— А суда?
— Несколько рыбачьих лодок, корабль пришел с устья Сены и пароход из Лиссабона.
Едва я окончил эти слова, как дверь распахнулась и в комнату вошел муж ее сестры; он служил мастеровым в порту и казался очень взволнованным.
— Сегодня пришел пароход из Лиссабона.
— Да, Ромен уже сказал мне об этом.
Хотя она сказала это вскользь, но вглядываясь пристально в лицо зятя, она поняла, что есть что-то новое.
— Боже мой! — воскликнула она, — «Нестрия» пришла?
— Да, да, хорошие вести, они встретили ее близ устья Сены, на корабле все благополучно, и не нынче-завтра она уже прибудет в Гавр.
Больная лежала на подушках такая бледная и слабая, что казалось, жизнь из нее ушла наполовину. Но при этих словах она быстро приподнялась.
— Господи! Господи! — сказала она с надеждой, и глаза ее еще раз вспыхнули жизнью, а румянец залил лицо. — Сколько же еще пути до Гавра?
— При попутном ветре двое суток, а то могло пройти и шесть. Пароход «Лиссабон» пришел через 30 часов, значит «Нестрия» могла прийти завтра.
Она послала за доктором.
— Продлите мне жизнь еще хоть немного, умоляю вас, пока мальчик мой вернется. Неужели Бог допустит, чтобы я умерла, не повидавшись с ним, не дав ему своего поцелуя и благословения перед смертью.
Возбуждение и надежда, казалось, вернули ее к жизни. Доктор при виде этого возбуждения не верил своим глазам.
У бедняков одна комната служит и кухней и спальней, а потому больная наша лежала в той же комнате, где готовили обед; тут же валялась немытая посуда, пузырьки с лекарством и прочий домашний скарб. Сестра и соседки были такие же бедные, как и она сама. У каждой было своего дела довольно, да и дети на руках. Некогда было наводить чистоту и порядок у больной, однако при мысли о свидании с сыном она упросила их убрать комнату, открыть окна и надеть на нее чистое платье.
— Я не хочу, чтобы, когда Жан приедет, здесь пахло аптекой и смертью. Только когда он приедет? Вот в чем был весь вопрос.
На море все то же затишье, хоть бы немного подул ветер, чтобы помочь «Нестрии» поскорее войти в родной порт.
В приморских городах существует обычай объявлять публике, какие корабли находятся в виду. Для Гавра эти сигналы обыкновенно подавались с мыса Фев, их тотчас же передавали в город и печатали для сведения в газетах.
Больная просила меня пойти посмотреть объявления. Разумеется, я со всем усердием бегал справляться всякий час в Орлеанскую улицу, в контору страхования, где раньше всего получаются нужные сведения. Но по причине штиля ни один корабль не появлялся на горизонте, все задерживались у входа в Ла-Манш.
Несмотря на это больная не теряла надежды и вечером попросила придвинуть ее кровать к открытому окну. На крыше соседнего дома вертелся большой флюгер, она не спускала с него глаз и все надеялась, что поднимется ветер. В другое время такая надежда показалась бы смешной. Небо было безоблачно; полная луна светила на небе, и флюгер не шевелился, точно припаянный к шпилю.
Сестра больной послала меня спать. Среди ночи меня разбудил шум, какого я давно уже не слыхал. Точно что-то поскрипывало. Я выглянул в окно, флюгер вертелся и железный стержень скрипел. Ночью поднялся сильный ветер. Я тотчас же вскочил и побежал на набережную. Море начинало порядочно шуметь, свежий ветер дул с севера и таможенный сторож, с которым я разговорился, сказал мне, что по всей вероятности он все будет крепчать и перейдет в северо-западный.
Я прибежал домой с добрыми вестями, потому что западный ветер пригонит «Нестрию» в Гавр, самое позднее, вечером этого же дня, к концу прилива.
— Ну, вот видишь, — сказала больная, — значит я была права, когда надеялась, что ветер переменится. О, Господь наконец услышал мою молитву.
Ознакомительная версия.