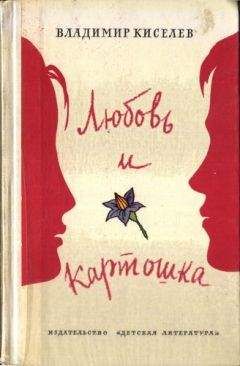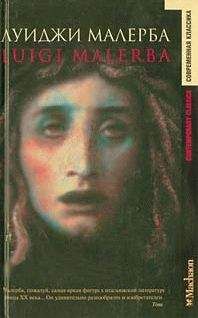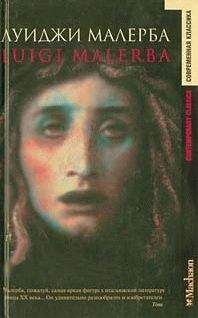По вечернему сентябрьскому небу, белесо-зеленоватому, как полесский арбуз, с белыми пятнами облаков, прошел надрез, обнаживший красную, спелую мякоть. Самолета не было видно, только красная полоска чертила по небу и расплывалась и исчезала. Реактивный самолет шел на такой высоте, что летчик видел невидимое с земли солнце.
Платон Иннокентьевич посмотрел на красный след самолета.
— Видно клева, уже не будет. Пора собираться. Как говорится, сматывать удочки.
— Сам не пойму, что такое,— виновато ответил Сережа.— Как будто нарочно... Платон Иннокентьевич! — попросил он горячо и смущенно.— Вы возьмите этого язя... Я себе еще поймаю.
Археолог нерешительно помолчал.
— Понимаешь, Сережа,— сказал он.— Ни я, ни Наташа не возьмем у тебя твоего улова. Но если ты пригласишь нас на уху... или на жареного язя...
— Конечно! — обрадовался Сережа.— Обязательно!
Он привязал к веревке от своего камня-якоря кусок пенопласта, и они поплыли к селу. Сережа вытащил лодку на берег, разобрал удилища, смотал лески.
— Платон Иннокентьевич! Вы весной к нам снова приедете? — спросил Сережа.
— Непременно, Сережа,— пообещал археолог.
А у Наташи Сережа не спросил, приедет ли она снова. Он так и не мог себе представить, что она в самом деле уедет. Навсегда.
— А что такое, в самом деле, стихи? — спросил Сережа у инопланетянина.— Что такое поэзия? Чем отличается она от прозы?
Инопланетянин задумался, а потом сказал негромко:
— Я тебе отвечу. Только ты об этом никому не рассказывай. Пусть это будет нашим секретом. Понимаешь... Настоящая поэзия — если она настоящая! — всегда выше прозы. И не потому, что стихи снабжены рифмами. Зарифмовать можно что угодно. Даже заявку на удобрения. И не потому, что в стихах есть определенный ритм, размер. В хорошей прозе тоже всегда существует свой особый ритм. А потому, что поэзия может сказать и донести до сердца читателя то, что прозой выразить невозможно.
— Так,— недоверчиво отозвался Сережа.— Ну, а например?..
— Например?.. Примеров можно было бы привести много. Скажем, захотел бы ты выразить такую мысль... Захотел бы сказать, что людей объединяет прежде всего язык. Что именно язык в первую очередь отличает одну нацию от другой, один народ от другого. И язык свой создают сами народы. Весь язык в целом и каждое слово в отдельности. И первыми помощниками народам в этом замечательном, в этом нужном и трудном деле являются поэты. Представим себе дальше, что ты бы хотел сказать, что среди этих поэтов был и такой человек, который обращался со своим дарованием несколько легкомысленно: пьянствовал, хулиганил, не успел написать многого из того, что мог и должен был. Что человек это был какой-то... ну, как бы это сказать... какой-то легкомысленный, но поэт замечательный. И смерть его — горькая потеря и для всего народа, и для тебя... Видишь, сколько бы тебе пришлось затратить слов для того, чтобы выразить эту мысль, а вернее сказать, эти мысли.
Но вот Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину» выразил все это и еще многое двумя строчками:
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
Это и есть поэзия.
— И это главное? — спросил Сережа.
— Нет, главное все-таки не это,— ответил инопланетянин.
Он улыбался. Он задумчиво улыбался. То есть его странная голова со множеством глаз, конечно, не улыбалась. Задумчивая улыбка была в голосе, который звучал у Сережи внутри, в голове, в голосе Виктора Матвеевича. Даже по одному голосу Сережа всегда знал, что чувствует Виктор Матвеевич.
— Главное, в самом деле, другое,— продолжал инопланетянин.— Главное — правда. Был такой известный поэт Алексей Константинович Толстой. Романс, который тебе так нравится — «Средь шумного бала»,— написан на слова его стихотворения. Алексей Толстой был графом, помещиком. Ваш колхоз имени 12-летия Октября расположен на землях, которые принадлежали ему. У него здесь, на краю Черниговщины, было тридцать три тысячи гектаров пахотной земли. Во сколько раз это больше, чем у вашего колхоза?
— В три раза,— ответил Сережа.
— В три раза,— подтвердил инопланетянин.— И в сороковых годах прошлого столетия он так писал об этой земле:
Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора,
Среди садов деревья гнутся долу,
И до земли висит их плод тяжелый?
Туда, туда всем сердцем я стремлюся,
Туда, где сердцу было так легко,
Где из цветов венок плетет Маруся,
О старине поет слепой Грицко,
И парубки, кружась на пожне гладкой,
Взрывают пыль веселою присядкой!
Как ты думаешь, танцевали тогда парубки вприсядку? Или поэт это придумал?
— Наверное, танцевали. В минуты отдыха. Не все же время они работали на помещичьей земле.
— Наверное, иногда танцевали,— подтвердил инопланетянин.— Такими увидел помещик Алексей Толстой этих людей и эту бедную землю. А Тарас Шевченко в тех же сороковых годах прошлого века об этих же самых местах, об этих же людях написал так:
Он глянь,— у тім раї, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують,
Єдиного сина, єдину дитину,
Єдину надію в військо оддають!
Бо його, бач, трохи! а онде під тином
Опухла дитина, голоднеє мре,
А мати пшеницю на панщині жне.
— Я знаю,— сказал Сережа.— Мы эти стихи Шевченко проходили в школе.
— «Проходили»! — передразнил Сережу инопланетянин.— Их нельзя «проходить». С ними нужно оставаться. С ними нужно жить. Это самая высокая поэзия. Потому что Тарас Шевченко видел большую народную Правду, а Алексей Толстой свою собственную маленькую правдочку.
Вон взгляни,— в том раю, что ты оставляешь,
Залатанный сермяк с калеки снимают,
С кожей снимают, потому что не во что обуть
Малолетних княжат; а вон распинают
Вдову за подушный налог, а сына заковывают,
Единственного сына, единственного ребенка,
Единственную надежду в солдаты отдают!
Их, видишь, мало! А вон под забором
Опухший ребенок голодный умирает,
А мать пшеницу жнет на помещичьем поле.
Глава пятнадцатая
НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
— Атебя, Сережа,— радостно объявила Наташа,— тогда б вообще на свете не было. И пришлось бы мне алгебру списывать совсем у другого мальчика.
— Может, и был бы,— как-то по-новому, оценивающе посмотрела на Сережу Алла Кондратьевна.— Но я б из него совсем другого человека сделала. Он бы у меня Гришины слова, как попугай, не повторял.
— Какой толк в том, что он мои слова повторяет, когда он твои дела делает,— улыбнулся Григорий Иванович и вдруг резко, в упор спросил у Сережи: — Ты картошку в магазин по весу сдавал?
Сережа растерялся. Он понимал, что вопрос этот неспроста, что отцу что-то известно, что, если он скажет «да», это будет неправда и батя не остановится перед тем, чтобы при всех уличить его во лжи, а если он скажет «нет»...
Матвей Петрович увидел, как растерянно потупился Сережа, и поспешил на выручку.
— Он — самосвалом... Что же ее, верейками перевешивать?
— Значит, прямо по накладной,— все так же резко обратился к Сереже Григорий Иванович.— На веру?
— По накладной,— нерешительно подтвердил Сережа.
— Накладные всегда были?
— Всегда.
— По скольку возил? — быстро, не давая Сереже опомниться, спросил Григорий Иванович.
— Когда как,— уклонился от ответа Сережа.
— Что значит — когда как? Сегодня сколько было?
— Ну что ты к нему пристал?..— вмешался дед Матвей. Он видел, что Сережа не выдержит такого напора.— Как ревизионная комиссия.
— Сережа, я у тебя спрашиваю, — требовательно и беспощадно посмотрел на Сережу Григорий Иванович.
— Сегодня...— не сразу ответил Сережа,— сегодня, кажется, две.
— Как это «кажется»? — возмутился Григорий Иванович.— Возил и не знаешь сколько?
— Серега,— удивился председатель,— у тебя машина с верхом была загружена. Я видел. Где там две!
— Так. Понятно. Значит, это в накладной было две,— констатировал Григорий Иванович.— Кто тебе накладную выписывал?
Сережа исподлобья посмотрел на Матвея Петровича и решительно выпалил:
— Сам выписывал.
— Что значит сам? Где ты ее взял?
Сережа и прежде замечал, что достаточно лишь сказать первое слово неправды, а дальше за него, за это слово, цепляются другие, как колесики в часовом механизме, и все это начинает вращаться и оборачиваться, и уже не поймешь, где начало, а где конец.