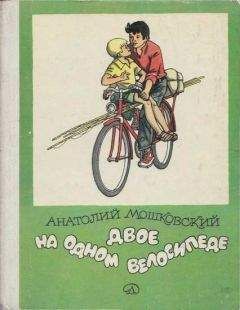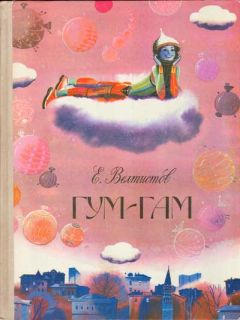Этот миг уже наступал раз двадцать, раз тридцать… Нет — сто! Как трудно было собраться с духом, решиться и броситься очертя голову в пруд.
Вот сейчас… Нет, прозевал миг! В следующий…
И опять не смог. Не сумел оторвать пятки от взлетевшей в небо доски! Нельзя опоздать. Нельзя промахнуться. Можно врезаться со всего маха в берег.
Сейчас вот оторвётся. И прыгнет. На него же смотрят… Сейчас он не пропустит мига и прыгнет на полном лету…
Сейчас!
Уже не он, Вася, худенький и нацеленный, впившийся двумя тонкими руками в верёвку, стремительно раскачивался на этой доске, уже не он, а одно его огромное сердце, оглушительно стучащее и напряжённое, взлетало туда-сюда — к облакам, к солнцу, к ветру.
Прыгнул. Оторвался. И почувствовал — летит. Летит!
И не кое-как, не раскорякой, а как нужно, руками вперёд, сложенными для ныряния руками!
Вошёл он в воду не очень ладно, не столько руками, сколько плечом, подняв тучу брызг. И совсем было не больно. Приятно было. Прохладно, и сердце опять сжалось, уменьшилось в сто раз и вошло в норму.
Зарылся глубоко в пруд, тут же вынырнул, вскинул над водой голову и медленно, размеренно, не суетясь поплыл к берегу. И услышал радостный, звонкий крик Оли:
— Цел? Живот не отбил?
И ещё Вася услышал тоненький голосок деда Кхе:
— Умный же мальчик, а тоже прыгаешь! Пример другим показываешь… Ай-яй-яй! Разбиться же можно! Утонуть!..
Длинный, сухопарый, в старой соломенной шляпе без ленты, в мятых, залатанных на коленях брюках, он стоял у качелей и горестно покачивал головой.
Васе стало неприятно, но он, разумеется, не удостоил ответом ни Олю, ни деда Кхе.
Вася вылез на берег, отжал на теле трусики и посмотрел на деда Кхе — тот, покашливая и сутулясь, уходил от пруда.
А Санька с Борисом неподвижно лежали на камере, смотрели в небо и загорали.
У Васи на глазах чуть не вскипели слёзы. Он поклялся и взгляда не кинуть больше на пруд.
— Васенька, вот где ты! Ищу-ищу… Домой, кушать пора! — раздался на берегу голос бабки Федосьи.
Худая, в длинной сборчатой юбке, в которых ходили в начале нынешнего века, в белом платочке и разбитых, без шнурков мужских туфлях на босу ногу, она стояла с бидоном в руках. Стояла и ждала, когда он сломя голову бросится выполнять её приказ.
— Иди, миленький, иди! — вдруг завопил дурным голосом Борис. — Супчик остынет! Курочка протухнет!
Васю так и передёрнуло всего. Ясно, что Борис хотел вывести его из себя. По-прежнему не глядя на их резиновый корабль, Вася миролюбиво, хотя и сдержанно ответил:
— Хорошо, я скоро приду, — и не тронулся с места.
— Остынет всё, пойдём, — продолжала своё бабка Федосья, сердито поглядывая сквозь толстые стёкла очков на пруд с резиновым кораблём.
— Сейчас. А бидоны не трогай, я их отнесу.
Бабка Федосья постояла в раздумье, поворчала что-то под нос, опустила бидоны на землю, потом подняла один и, показав резиновому кораблю свой нестрашный старушечий кулачок, пошла к калитке.
Как только она исчезла, Вася, уже обсохший на солнце, быстро оделся, присел на траву за кустики, выложил из карманов несколько оставшихся абрикосов.
— Не хочет — и не надо!.. Ешь, — сказал он, — ешь, пожалуйста, Петух, чтобы ничего не осталось… — Вася стал запихивать и себе в рот и есть абрикосы, так есть, что чуть зуб не сломал о твёрдую косточку. И вкуса никакого не почувствовал. — Подожди меня здесь, я сейчас!
Вася сорвался с места, кинулся к калитке и побежал по улочке. За воротами посёлка был мостик из брёвен. Вася нагнулся, вытащил из-под него ржавую полосу железа, припрятанную на всякий случай весной, и бросился к бетонке.
Он бросился к тому месту, где в прошлом году накладывали новый асфальт: там медленно ходил широкий, на гусеницах, асфальтоукладчик; от него веяло нестерпимым жаром, дымом, резким запахом гудрона; потом эту чёрную свежую массу основательно и безжалостно утюжили многотонные катки. Вася с мальчишками как раз возвращался с Бычьего пруда; они поглазели на работу катков, и Санька, подмигнув ребятам: «Сейчас увековечим! Чтобы никогда не стёрся!» — незаметно нарисовал палочкой на самом краю нового асфальта какую-то рыбку — не бычка ли? И они побежали к посёлку. Впереди — Санька, с удочкой в руке, с мокрыми на загривке космами волос: только что он соревновался со старшими ребятами, за два часа поймал девяносто пять бычков и вышел в «олимпийские чемпионы» по этому виду спорта; на двадцать три бычка обогнал девятиклассника Серёгу! Через несколько минут Вася вернулся к бетонке — к счастью, рабочие ушли на обед — и с трудом выцарапал на застывающем асфальте: «Ура, Санька!!» — третий восклицательный знак уже не смог процарапать: асфальт затвердел…
Вася побежал по бетонке и остановился.
Да, надпись всё ещё не стёрли скаты машин, гусеницы тракторов, подошвы пешеходов, и тогда Вася изо всех сил стал скрести надпись ржавой железякой. Весь этот год скрывал он от мальчишек, что нацарапал её, чтобы не подумали, что он так уж влюблён в Саньку, а теперь сам решил уничтожить надпись, стереть, как говорится, с лица земли.
Пусть Санька знает, что Вася хоть и небольшой ещё, но гордый…
Он долго и упорно скрёб железякой. Всё было бесполезно: за год асфальт словно окаменел и не поддавался.
Вася тихонько всхлипнул, вытер нос, махнул рукой — пускай уж эта надпись остаётся! — и побрёл к посёлку.
Подхватив возле Мутного пруда бидон с водой, двинулся к калитке. Крылышкин кинулся следом. Лицо у него было удивлённое.
Вася шёл, и глаза его сами по себе моргали, а лоб морщился. Знакомые громкие голоса, раздававшиеся впереди, заставили его поднять голову.
У забора стояла бабка Федосья и разговаривала с Демьяном Семёновичем, Санькиным дедом, маленьким, прямым старичком с седой бородкой клинышком и резной ореховой палочкой в руке. На нём был сшитый его руками брезентовый фартук с двумя накладными карманами.
Дед был мастером на все руки. В посёлке не было другого такого садовода: хоть экскурсии води на его участок! На нём радостно и свежо сияют лепестками редкие сорта роз, гладиолусов, флоксов, дельфиниумов, и всё тщательно выполото и посеяно, по шнуру проведены дорожки меж гряд, густо побелены стволы яблонь, образцово окучена картошка, и не у кого-то, а по его участку протянулся неведомо где добытый дедом единственный во всём посёлке эластичный шланг…
Подходя к ним, Вася подобрался, насторожился.
Бабка Федосья глубоко уважала деда Демьяна за тщательность и старания, и, Вася был уверен, каждую ночь видела она во сне, что и на их участке поселилась та же красота и порядок. Да, бабка Федосья и дед Демьян готовы были костьми лечь, душу свою положить за эту землю — тяжёлую, глинистую и малоплодородную, и за то, что с большой неохотой произрастало на ней.
О чём же они говорили сейчас?
— А ты что думала? Хоть кол на голове теши, а по-своему сделает! — сиплым, но тем не менее на весь посёлок слышным голосом шумел дед Демьян. — Что ему моё слово, если отца родного не признаёт и свою мать…
«Ну не мать, а мачеху, так будет точнее», — подумал Вася и очень хотел услышать, в чём дед Демьян будет обвинять внука. Для этого нужно было придержать шаг или спрятаться за дубком, но Вася лишь в редких случаях хитрил, обманывал или (случалось, к сожалению, и такое) терял совесть, подслушивая взрослых. Однако потерять совесть он мог на очень кроткое время, на одну-две минуты, потому что жить без неё, без этой самой совести, час или два было просто невмоготу…
Сейчас Вася был разобижен на Саньку, и всё-таки неприятно было слышать, как дед Демьян громко и при всех ругает своего внука. И Вася — уже издали — крикнул бабке Федосье:
— Баб, а ты почему не идёшь? Идём же!
Бабка Федосья почему-то вздрогнула, по-смешному отпрыгнула от деда и мелким, старушечьим шагом засеменила по улочке.
Шагая домой, Вася думал, что дед Демьян — не совсем ясный ему человек. Как-то они вырезали с Санькой из жести флажок флюгера, и вдруг из Санькиного дома донёсся тонкий, певучий звук скрипки. Он был такой красивый, лёгкий и тревожащий, что Вася вскинул голову и спросил: «По радио передают?» — «Да нет, дед играет, — равнодушно ответил Санька, — любил когда-то в молодости, учился даже в какой-то музыкальной школе, да бросил, когда мой отец родился; говорят, и потом, когда дед в своей бухгалтерии, в ЖЭКе на костяшках стучал, до выхода на пенсию, играл на скрипке, а теперь редко берётся за смычок…» Видя, что Вася не верит ему, Санька, когда дед вышел из дому, кивком головы позвал Васю в комнату и показал настоящую скрипку в старом потёртом деревянном футляре с крючочками. И спросил: «Ну что, веришь теперь? Пусть бы играл себе, струны смычком пилил, их не жалко, а ведь он, дед…» — Санька запнулся. «Что «он»?» — спросил Вася. «Да ни к чему тебе сейчас это, вырастешь — и на твою долю хватит всякого… Никогда не прощу я деду одного, не хочу, чтобы он и мою жизнь пытался ломать и перекраивать по-своему. Ясно?» Вася кивнул, ровным счётом ничего не понимая. Но это было как ожог. Чью всё-таки жизнь хотел сломать и перекроить по-своему этот прямой и аккуратный старичок? Вася так и не узнал — чью, однако с тех пор чувствовал, что не так-то всё просто и обычно в Санькиной вражде к деду Демьяну. А музыку дед любил. Он редко расставался с транзисторным приёмничком. Вася своими глазами однажды видел: ходит дед по лесу, шарит палочкой в поисках грибов по траве и кустам, а сам слушает негромкую музыку, накинув ремешок приёмничка на плечо.