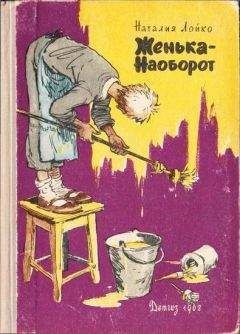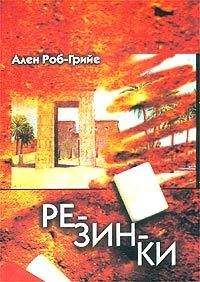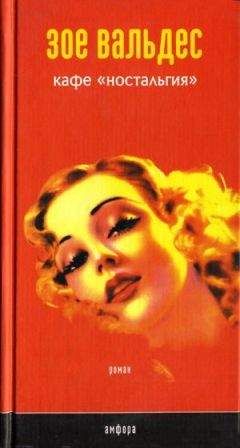Москвич сказал нам всем «здравствуйте», но подавать каждому руку не решился.
Из разговора я понял, что приехал он отдохнуть к бабушке.
«Точно в деревню», — подумал я, оглядывая со всех сторон москвича. По своей фигурке, щупленькой и юркой, он тоже не очень походил на настоящего москвича.
— А ты был на Красной площади? — спросил я вдруг.
— Был.
— Какая она?
Москвич пожал плечами:
— Как какая? Обыкновенная. Кирпичная стена. Спасская и Мавзолей. Часовые у входа.
— Да это я и сам знаю.
— Чего ж тогда спрашиваешь? Площадь как площадь.
— Красивая хоть?
— Красивая, — сказал москвич. — На ней только машин очень много. Как переходишь проезд Исторического музея, приходится долго ждать.
Я помолчал.
— А в Третьяковской галерее был?
— В Третьяковке-то? Кто ж в ней не был?!
— Ну как там?
— Странный ты какой-то… — Москвич подергал плечами. — Картины там. Очень много картин. За день не пересмотришь.
— Да что ты прицепился к нему! — налетел на меня Ленька. — Мы тоже хотим поговорить. — И стал расспрашивать про воздушные парады в Тушино и видел ли он Чкалова.
Мы присели на бревна, и я больше не задал москвичу ни одного вопроса. Из разговора я узнал, что зовут его Валей, но никто из нас не звал его по имени: за глаза — да и в глаза — мы стали звать его Москвичом.
— Ты сальто-мортале можешь крутить? — спросил Ленька.
— Я не циркач, — сказал Москвич.
— Пошли на Двину искупаемся.
— Хорошо, я только бабушку предупрежу, а то будет волноваться.
— А может, он и не москвич, ребята, а какой-нибудь самозванец? — сказал я, когда Москвич скрылся в дверях подъезда.
— Почему ты так думаешь? — спросил Вовка.
— Так, — сказал я, и это было все, что я мог сказать о нем.
Скоро открылось окно, Москвич высунулся из него и радостно крикнул нам:
— Иду! Бабушка разрешила!
И столько было в этом голосе радости и торжества, что я на миг усомнился: а может ли он плавать?
Плавать Москвич умел. Когда мы забрались на плот и разделись, я спросил у него:
— А с «дрыгалки» прыгнешь?
— С чего-чего?
И я сразу понял, что, наверное, только мальчишки Западной Двины знают это слово, а он живет на Москве-реке, и что, конечно, ни в одном словаре нет этого слова.
— Да вот с этой балки. — Я показал на «дрыгалку».
— Не пробовал, — признался Москвич, раздевшись.
Первым на «дрыгалку» опять полез Ленька. Он легонько пробежал по ней, потом повернулся лицом к нам на ее узкой плоскости. Я прямо-таки обмер.
— Ребята, кручу! — заорал Ленька, изо всех сил раскачивая «дрыгалку».
Она гнулась почти до воды. Он выжидал момент. Выждал — она с огромной силой подбросила его в небо, и Ленька, свернувшись калачиком, три раза перевернулся в воздухе и коленями и головой впился в воду.
Не успел Ленька вынырнуть, как Гаврик завопил:
— Сила! Сила!
Вовка удачно вошел в воду головой. Я не плюхнулся больше животом. Слишком усердно забрасывая ноги, я перевернулся и спиной грохнулся в реку и даже на глубине услышал смех.
Вылезая на плот, я не краснел: подумаешь, с чего краснеть?
Даже Гаврик, боявшийся раньше пройти по «дрыгалке», рискнул. Кое-как забрался и солдатиком отважно прыгнул в реку.
Все мы сделали свое дело и поглядывали на Москвича: его очередь! Но я-то не верил, что он покажет класс прыжка: была середина лета, а он даже не загорел и был белый, как блин, когда тесто выливают на сковородку…
Мы спрыгнули еще по разу, а он все сидел на плоту, тихий и худенький, с кривоватой линией позвонков на спине.
— А в Москве солнце бывает? — спросил я вдруг.
— А почему ж его там не должно быть?
Ленька насупился и показал мне увесистый кулак. Но меня уже что-то подхватило.
— А в Москве детей кормят?
— Голодом морят, — сердито отрезал Москвич.
Кусок коры, запущенный Ленькой, больно ударил меня в плечо.
Ах, Ленька, Ленька, мой лучший друг, как не понимал он меня на этот раз! Все бы, наверное, было не так, если б не думал я так часто о Москве и не мечтал побывать в ней хоть один денек…
Москвич умел плавать. Он старательно слез с плота, показал нам белизну своего тела, проплыл метров десять, демонстрируя умение держаться на воде, и снова осторожно, чтоб не поцарапаться о бревна, вылез.
Потом мы оделись и стали карабкаться в гору.
Обида моя давно прошла. Мне даже стало хорошо: я казался себе лихим, великодушным, храбрым парнем, который увидит не только Москву и побывает не только на Красной площади… И когда мы взбирались по особо крутому склону Успенки, я с удовольствием подавал Москвичу руку и тащил его вверх.
Я бегал по Успенской горе на лыжах, спускался вдоль заснеженных лип и вдруг увидел впереди мальчишек.
Гневными жестами требовали они, чтоб я свернул в сторону.
Я сделал полукруг и тихо подъехал к ним. Мальчишки были незнакомые. Они ловили птиц. Из-за стволов лип они поглядывали на западни, пристроенные под обрывом, в обледеневших кустах сирени. В них, в этих западнях, красными огоньками прыгали снегири.
— Поймались! — шепнул я. — Что ж вы не берете их?
— Заткнись! — буркнул старший в огромной, облезлой, похожей на воронье гнездо папахе и надвинул мне на глаза ушанку.
Я не обиделся: вопрос, наверно, был глупый.
Уперев в грудь палки, я стоял возле них и наблюдал.
— Это для приманки, — вполголоса объяснил мне мальчишка с вороньим гнездом на голове.
— А-а-а… — сказал я.
В этот день я едва не опоздал в школу. К тому же не сделал примеров по арифметике и не выучил урока по географии. Зато вечером насел на маму: просил деньги на западню. Я клянчил их долго и нудно, говорил, что отныне в любую погоду буду на свежем воздухе и стану краснощеким и здоровым, что изучу повадки всех птиц и обязательно поймаю уйму синиц, снегирей, щеглов, и они с утра до вечера будут веселить ее своим пением. А без западни жизнь не в жизнь…
Получив деньги, я поехал на базар и привез оттуда прекрасную западню-двухкрылку со снегирем внутри. Двухкрылка — это вот что: по двум концам клетки с подсадным снегирем в середине есть два отделения с откидной стенкой; стоит снегирю прыгнуть на специальную палочку — она падает, стенка захлопывается. При особой удаче можно поймать сразу двух: по снегирю в крыло.
Я вез западню в трамвае и все смотрел, как внутри прыгает снегирь, толстоклювый, пушистый, с красной грудью. Карманы моего пальто были набиты кормом — очищенной рожью и коноплей. Кое-как пообедав, я сразу же помчался с западней на берег Двины. Хвост из пяти приятелей тащился следом.
— Только тише. — Я приложил к губам палец. — Птицы — они хитрые, издали чувствуют опасность.
Был сильный мороз, от дыхания шел пар, и кончики пальцев в варежках мерзли.
Я шел по краю обрыва, зорко оглядывал липы и кусты в сугробах. Я знал, что птицы любят лакомиться семенами липы — крошечными шариками, по два, по три прикрепленными к тонким усикам.
На липах чирикали воробьи — и ни одной настоящей певчей птицы. Приятней всего было бы поймать щегла — прекрасно поющую птичку с красными щечками. На втором месте шел снегирь, а уж на третьем — неугомонные желто-серые синицы. Воробьи в счет не шли.
Где же певчие? Куда попрятались? Ничего! Сразу слетятся на призывы подсадного…
Я приглядел хорошее местечко в кустах, утопая выше колен в снегу, снес туда западню, раскрыл крылья, насторожил палочку и подсыпал зерна.
— Смотри у меня — свисти, сзывай, — приказал я снегирю и по своим же следам полез вверх.
Мальчишки ждали меня возле лип. Было тихо и очень холодно. На кустах и в сучьях деревьев остро блестел иней. Я выглядывал из-за ствола. Мой снегирь работал исправно: четко выделялся на снегу, прыгал в западне и даже посвистывал своим дрожащим снегириным свистом. Вытянув трубочкой губы, я подтягивал в помощь ему.
Птиц не было. Ни мои посвистывания, ни конопляные зерна не могли привлечь их. Один за другим покидали меня промерзшие мальчишки.
Скоро я остался один. Снег, попавший в валенки, начал таять, и пальцы ног заныли.
Военный, прошедший мимо, сказал:
— Мальчик, у тебя нос побелел, три — отморозишь!
Я потер снегом нос.
Птиц не было.
Зато становилось все холодней. Я приплясывал, хлопал рука об руку, поглядывая на снегиря. Он чувствовал себя куда лучше, чем я.
Стало смеркаться. Я пошел домой. Одной рукой тер нос, второй за колечко нес западню. Ноги и щеки одеревенели.
Мама обратила внимание на мой кашель.
— Это я еще утром простыл, — сказал я.
Я ужинал и смотрел, как снегирь клюет коноплю и, закидывая головку, пьет воду из стеклянной баночки.
Я промерз, устал и клевал носом над учебниками. Кое-как осилив географию и русский, пошел спать. А на следующий день я снова дежурил у старых лип. В ветвях я заметил трех снегирей — они были сыты семечками липы и не желали ловиться. До покупки западни я видел в кустах целые стаи этих птиц. А теперь…