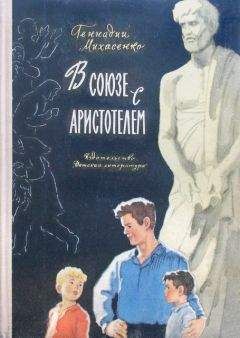У домика Мезенцевых председательница остановила Грёзу и вошла в дом. Её долго не было, наконец она стремительно вышла, красная и, кажется, раздражённая.
— Царица небесная, что творится на белом свете?!
Распахнулось окно, из него высунулась косматая голова дяди Тихона.
— Убирайтесь ко всем чертям и оставьте меня в покое! — прокричал он хрипло, тяжело закашлял и уткнулся лицом в горшок с цветами.
Мы сидели в телеге подавленные. Против своего дома я спрыгнул, не попрощавшись с друзьями.
Среди мальчишеских забот и увлечений мы забывали о том, что идёт война, что живётся трудно. И вдруг какое-нибудь одно слово или жест грубо напоминали об этом, и сразу исчезала безмятежность, и в мыслях становилось как-то тревожно. Я всегда в такие минуты вспоминал папу, его портрет, висевший над моей кроватью.
Вот и сейчас. Я лежал с мамой. Я только что рассказал ей о Тихоне Мезенцеве.
— У человека слабая душа. Но ничего, он отойдёт, он уже второй раз теряется… Война — это проверка людям: и большим, и малым. И если они оказываются сильными, они побеждают и здесь, и там…
Разговор мог зайти о папе, и мы замолчали, чтобы не бередить друг друга.
— Мама, мы завтра гоним стадо одни. Шурка ружьё берёт. Патронов нету, но ружьё поправдашнее.
Мама улыбнулась — её щека шевельнулась у меня под рукой. Но я знал, что она всё равно думает о папе так же, как и я, и так же, как и я, чувствует отцовский взгляд, устремлённый на нас с невидимого в темноте портрета.
Я проснулся, сел в кровати, быстро проморгался и, соскользнув на пол, выскочил на крыльцо.
Солнце только что выкатывалось из-за расплывчатой кромки тайги. Оно не ослепляло, и на него можно было смотреть долго-долго, как на уголёк. На окнах полыхал отражённый восход.
Холодок добрался до сердца, я вздрогнул и юркнул в избу. Мамы уже не было. Удивительно, как это она так рано поднимается каждый день. Неслышно протапливает печь, готовит еду и уходит. Она не будит меня, чтобы растолковать, чем мне питаться без неё. Я сам знаю это. Я пошарил рукой в тёмном зеве печи и вытянул сковородку. Жжётся. Прихватил тряпкой. На столе, возле пепельницы, чистой со дня ухода папы на фронт, увидел записку. Сажными руками схватил её, поднырнул под штору и уселся на подоконник. Я кончил второй класс, но мама по привычке или в шутку написала мне печатными буквами. «Миша, сегодня в клубе постановка, ты играешь! — напомнила мама вчерашнюю новость. — Пригоняйте стадо пораньше. Мама». А ниже добавила: «Может быть, от папы придёт письмо».
Письмо! Я откинул штору и взглянул сквозь комнатную серость на портрет. У папы большой нос. Мама говорила, что он на семерых рос, а одному достался. И хорошо, что одному. С другим носом папа выглядел бы смешно. Волосы у папы густые и длинные. Тоже, наверное, на семерых росли. В углу лба — шрам, уходящий в волосы, как тропинка в лес…
Папа, папа! Как ты там?..
Мы — ничего. Мама работает. Я пасу овец. Ты ведь не знаешь, что я пасу… У меня есть хорошие друзья — Колька и Шурка…
Я спохватился и торопливо соскочил с подоконника.
Картошка, жаренная с луком, приятно пахла. Картофельный хлеб я отодвинул. Потерплю день. Сегодня начиналась уборочная, значит, завтра будет настоящий хлеб. Тётка Дарья обещала нам первую корочку — заработали, как-никак пасём вторую неделю.
Во дворе раздался треск, точно там били пистонки. Это Шурка щёлкал бичом — звал меня. Миг — сковородка опустошена, второй миг — я одет, третий миг — здороваюсь с друзьями.
Большеголовый Колька был вровень с Шуркиными плечами. Он улыбался неизвестно чему. Шурка был хмурым.
— Эти-то, «спаянные кишочки», спят, поди, — проговорил Колька.
— А чего же им делать. Спят, — подтвердил я.
Но неожиданно дверь Кожиных открылась, и вышел Толька. Увидев нас, он остановился, но тотчас сбежал с крыльца и скорым шагом направился в дом напротив, наверное, за молоком.
— Кожиха, должно, болеет. Во дворе её что-то не видно, — сказал я.
Мы шагали рядом и в ногу. Шурка — в сапогах с раструбами. Правда, раструбы эти он пришил и вкривь и вкось, но впечатление чего-то необыкновенного они производили. На моих ногах болтались лёгкие сандалии, а Колька был босиком. Он нёс ружьё. Настоящее ружьё: железный ствол и затвор. Оно было тяжеловатым для него, мы чувствовали. Но Колька не признавался.
— Чтоб мне с кедра свалиться, не тяжело! — клялся он. И в доказательство пытался удержать ружьё на вытянутой руке, и удерживал, перекосив вздрагивающее от напряжения лицо. Зато после с удовольствием швыркал носом и гордо закидывал ружьё за спину, сбивая прикладом кожу на пятке.
— Я вчера у «спаянного кишочка» видел какую-то штуковину, — заговорил Колька с передыхом. — Он зажмёт её между ладоней да как крутнёт — она, чисто чертёнок, вверх ж-ж-ж… Потом упадёт, а он снова ж-ж-ж…
— Известно, городские. Понавезли всяких заводных хитростей и вытворяют, — рассудил я. — А что, так и взлетает?
— Прям так и ж-ж-ж… Выше крыши!
Навстречу нам, громыхая по неровностям дороги, катила телега. Мы издали узнали Грёзу и тётку Дарью, стоя правившую кобылой.
— Опять остановится, — буркнул Шурка, выкидывая вперёд бич.
С тех пор как мы пасём овец, не было случая, чтобы председательница, завидя нас, не притормаживала, не спрашивала, каковы наши дела. Нам случалось трижды сталкиваться с ней за день, и трижды мы отвечали, что дела наши идут как по маслу.
— Тпр-ру-у-у… Миленькие мои, — воскликнула тётка Дарья, спрыгивая с телеги и одёргивая юбку. — Вы хоть высыпаетесь?
— Высыпаемся.
— То-то… А втроём вы справляетесь?
— Да мы и вдвоём, без Мишки, справились бы, — важно сказал Колька.
— И без Кольки тоже бы уладили, — заметил я.
Тётка Дарья рассмеялась. Потом порывисто нагнулась, чмокнула Шурку в щёку, прыгнула на край телеги, так что телега накренилась, как лодка, черпнувшая бортом, и крикнула:
— Но-о, Грёза!
Кобыла не сразу тронулась с места. Она только останавливалась быстро, а ход набирала долго.
— Э-э, — спохватился Колька. — Забыли спросить про хлебные корочки. Стряпухи, поди, зашевелились в пекарне. Ох и хлеба хочется!
И живо перед глазами возникли коричневые булки, припудренные золой и лопнувшие по краям. Мы особенно любили эти треснувшие корочки, в них меньше мякоти, и когда жуёшь — сплошной хруст.
Из подворотен, на миг застревая в щелях, вылезали гуси, хлопали крыльями, шумно гоготали и, разбежавшись, пролетали несколько метров. Потом садились, переворачиваясь через голову, и, отряхнувшись, строем направлялись в луга.
Скотный двор угадывался издали по тёмным кучам навоза.
Когда мы подошли, сторож запирал ворота. Только что пастухи угнали коров, ещё доносилось голодное мычание.
— Дед Митрофан, вот и мы, не запирай…
Старик оглянулся.
— А-а…
— Мы, — зачем-то повторил Колька.
Дед лукаво поглядел на него.
— Вот ты, босалыга, ружьишко-то таскаешь, а тятька придёт с фронта и вроде как с претензией к тебе, а то и всыплет.
Шурка взял ружьё и тихо ответил:
— Пусть бы всыпал, только б вернулся.
Дед на минуту задумался, спрятав пальцы в бороду и глядя на Шурку, потом спохватился и живо забормотал:
— Ну, зачинай… Выпущайте… Да, хлопцы, там одна овечка прихрамывает, чёрненькая, с рваным ухом. Приглядите за ней.
Мы пошли через конюшню, чтобы оттуда проникнуть в овчарню и открыть её изнутри. Лошадей здесь не было давно. Летом только в ненастье их заводили в стойла. Из кормушек торчала сухая трава.
— Игренька, говорят, на борону напоролся, — сказал я. — И кишки вывалились. Кишки ему обратно в брюхо засунули, а дыру соломой заткнули.
Ребята ужаснулись.
— Враньё, — раздалось вдруг из угла, и мы вздрогнули от неожиданности.
Из мрака вынырнул Анатолий с хомутом на шее.
— Чинил этот галстучек. Какой-то пройдоха супонь обрезал… Про Игреньку врут. Он просто ляжечку поцарапал и курортничал два дня, а сегодня его определили на зерно. Чуете, на зерно! Звучит? Ну, а как ваши делишки? Овцы не забодали?
Он достал складень и начал обрезать что-то у хомута.
Наши взгляды перекрестились на складне, который блестел даже здесь, в сумраке конюшни. Кто из нас не хотел бы иметь такую штучку?
Хоть Анатолий мне и брат, но родственные чувства в нём спали. Я сколько раз говорил ему, что взрослым ни к чему складень, он пропадает без пользы, а мальчишке он мог бы здорово пригодиться. Анатолий будто не понимал моих намёков.
— Вот так, теперь порядочек… Ну, обормоты, будьте целёхоньки. Помните пресс-конференцию. — И, ущипнув меня за бок, он пошёл к выходу, длинный, похожий на щуку, и в сапогах, густо смазанных дёгтем.