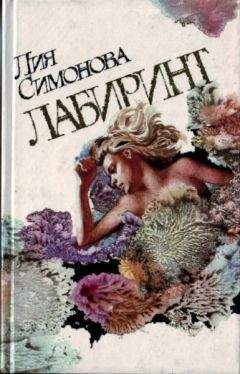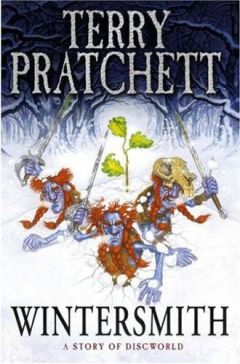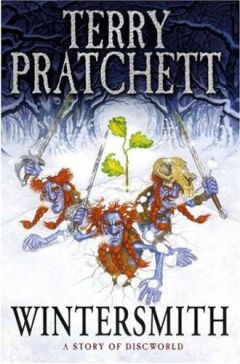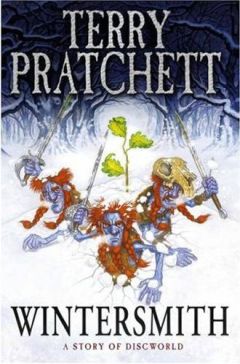Мысленно вернувшись к недавнему разговору, Лина забеспокоилась, не оборвалась ли и ее нить, не отказались ли от нее силы космоса, не лишилась ли она высшей опеки, если ни воздух, ни вода, в образе соленых снежинок совершающая круговорот в природе, не очищают ее, не приносят покоя.
Но постепенно дыхание ее стало ровным, голова прояснилась, исчез застрявший в горле комок.
Лина с облегчением еще раз набрала полные легкие свежего воздуха и, прогнав космические размышления, побрела обратно в школу. Куда же еще?..
По всем школьным этажам, лестницам, классам несся ей навстречу призывный клич звонка на перемену. И сразу же хлынул, обрушился на Лину, обтекая и чуть не сшибая с ног, бурный поток вырвавшихся на волю узников, ликующих и воинственных.
Эта бушующая, неуправляемая, совершенно безучастная к ней, да и ко всем другим, стихия была ее земной жизнью, жизнью, которая не щадила, но и не позволяла исчезнуть в потоке, а удерживала на плаву и возвращала к пристани…
Засыпая, Сонечка нарочно оставляла зажженным ночник у изголовья своей постели. Мама разрешала ей это, потому что понимала, как пугает дочку темнота.
Ночь для Сони — самая что ни на есть изощренная пытка. Погружение во тьму уносит ее в бездну, откуда можно и не вернуться. И прежде чем позволить одолеть себя, Сонечка долго и самоотверженно борется со сном, заставляя разомкнуться уже слипающиеся веки и все проверяя, не погас ли огонек возле нее — крошечная светящаяся точечка, соединяющая ее с живым трепещущим миром, ее надежда на завтра.
Вполне вероятно, в этой неравной ночной борьбе Соня теряет столько сил, что после, днем, ей недостает их, чтобы выстоят против житейских неурядиц.
Время от времени Сонечке снится, что свет лампы погас и мрак обволакивает ее. Как маленькая, беспомощная мушка, барахтается она в затянувшей ее темной паутине, и воля ее слабеет от сознания, что все бесполезно — она пленница черноты, ее безмолвная рабыня. Это первый миг ужаса.
Кто-то невидимый, добрый пытается спасти ее — выстреливает во тьму пучком ярких искр, как во время праздничного салюта. Но Сонечка не успевает вздохнуть с облегчением — искры, теснясь, соединяются в пламя, неровное по краям, огнедышащее. Это снова угроза — пламя с великой скоростью надвигается на Соню, намереваясь поглотить и испепелить ее.
Соня сжимается от стиснувшего ее страха, и пламя проносится мимо, не опалив ее. Ей будто легче, вольнее, но это обман. Пламя не исчезает, оно взметнулось и неспешно переливается в раскаленный меч. Не отрываясь, Соня наблюдает за дьявольским действом, словно прикованная к нему взглядом, и видит, что огненный меч зависает над нею.
Он не спешит сразить ее, он нацеливается, и наполненное жутью ожидание невыносимо. А огненный меч то скользнет вправо, то отступит левее, то чуть поднимется, то сползет вниз. Он знает, что девочке не уйти от него, и наслаждается ее испугом и своей властью над нею. Неотвратимость беды, пожалуй, самое угнетающее чувство в этом бесконечном, вязком, с малых лет повторяющемся видении.
Сонечка знает из прошлого, что вот-вот она почувствует облегчение, и терпеливо ждет его, не просыпаясь. Из непроницаемой мглы тянутся к ней руки, маленькие, хрупкие, светлые. Это мамины руки, она помнит их тепло, она никогда не спутает их с чужими. Мамины руки пытаются перехватить меч, отстранить от нее, но меч не даётся, увиливает и появляется в ином месте, но все равно над головою. И опять нацеливается. Нет, ей не снести этой муки…
Ей жарко, должно быть, она в сатанинском пекле. Но странно, почему ей приятно? Тепло разливается по всему телу, и идет оно не из адской печи, а от нежных рук мамы. Они не в силах отвести меч, но они обхватили и заслоняют ее, и ей уже не так страшно. Она прижимается к матери, не видя ее, а только ощущая и впитывая ее тепло и… успокаивается.
Слившись воедино, мама и Соня, крадучись, проникают в длинный-предлинный туннель, за которым, если они доползут, открытое свету пространство. Нужно только добраться туда, освободиться. Все внутри дрожит от подстерегающей опасности, но они упрямо движутся вперед, только вперед. И вот наконец свобода! Они парят в воздухе. Сонечка испытывает ни с чем не сравнимое чувство полета. Ей так легко, так радостно. Ей хочется задержать, остановить сон, и тут всякий раз наступает горькое разочарование — в свободном полете они не вознеслись, они падают вниз, в пропасть…
Сонечка кричит: «Нет! Нет! Нет!» — но крик ее исчезает в пространстве. Мама на лету успевает ухватиться за какую-то раскачивающуюся взад-вперед перекладину, похожую на трапецию в цирке, но не выдерживает, разжимает пальцы, а она, Соня, зачем-то повторяет ее жест, тоже отпускает пальцы и сразу же теряет маму.
Это самое жуткое наказание в терзающем ее сне. Мама, освободившись от Сони, взмывает ввысь, как воздушный шарик, отпущенный малышом, а Соня всей тяжестью своего неуклюжего тела падает в бездну, чтобы исчезнуть навеки…
Дольше сон продолжаться не может, и Сонечка просыпается. Она вся в холодном поту, обессиленная, раздавленная, поникшая. Она не сомневается: кто-то свыше внушает ей — это сон вещий. Он предначертание. Он знак ее жизни. Ее судьба. И ей не хочется жить…
Сколько раз, еще маленькой, просила Сонечка маму растолковать ей то, что снится с таким мучительным упорством. Но мама ничего не могла или не хотела объяснить, а только обнимала Соню, гладила по голове и роняла на ее макушку слезинки.
Как-то летом, в деревне, бабушка сказала ей, что маме пришлось многое пережить, когда их бросил непутевый Сонин отец, а потом натерпелась мама и от второго, постоянно пьющего мужа, Сониного отчима. И однажды ночью мама, спрятав Соню под шалью, убежала, как была, в ночной рубашке, спасая дочку от занесенного над нею ножа. Вот и снится Соне этот нож и этот побег… Рассказ бабушки бередил давно забытую боль, но память не возвращала ей тех чудовищных, уже поблекших и сгладившихся, как старый шрам, событий. Да и не в событиях было дело, а в страдании, которое несли ей ночные ощущения — этот зловещий трепет, эта загнанность под прицелом враждебно ликующего меча и захватывающее дух падение, которое могло означать только то, что на завтра нет надежды…
Соне не хотелось просыпаться…
— Не могу разбудить!
Соня слышала досаду в словах матери, но смысл их едва ли доходил до нее, словно произносились они в ином измерении, на недоступных ей частотах.
И вдруг в ее сознание ворвался вкрадчивый, неприятный голос недавно появившегося в их доме чужого человека, нового ее отчима:
— «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит…» Просыпайтесь, барышня, школа не будет вас ждать, а ночник пора потушить, иначе наши карманы иссякнут, не успев наполниться…
Он будто шутил, но шутки его не веселили. Задевало, что он бесцеремонно подтрунивает над ней, и это старомодное обращение — барышня, которое звучит как издевательство, и странная манера по любому поводу вспоминать о расходах и одновременно цитировать стихи. Нет, она никогда не привыкнет к нему, не сможет его полюбить… За что же, за что судьба так немилостива к ней, ведь им так хорошо жилось вдвоем с мамой?..
Соня понимала: мама намучилась с двумя прежними мужьями, ей, как и всем на свете женщинам, хотелось ласки, опоры, и она старалась убедить дочку, что им необыкновенно повезло с дядей Колей, Николаем Тихоновичем, который не пьет, и не курит, и хорошо зарабатывает, и человек солидный, образованный, эксперт, к тому же поэтическая натура…
Мама вся расцветала, и лицо ее озарялось мягким сиянием, словно на нее спускалась небесная благодать, когда Николай Тихонович, закатывая глаза и старательно складывая толстые губы трубочкой, напевно и торжественно читал:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
В такие минуты мама, как робкая ученица перед любимым учителем, затихала в тайном восторге и не замечала ни ее присутствия, ни телефонного звонка, ни посвистывания закипающего на плите чайника. Она слушала проникновенно и преданно.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
Сонечка тоже любила поэзию, знала наизусть немало стихов и даже сама пробовала сочинять, но она полагала, что нескромно навязывать другим свое сокровенное. И в том, что, сидя на кухне над грязной тарелкой с только что съеденной котлетой или голубцами, Николай Тихонович актерствовал, словно выступал на сцене перед зрителями, Сонечка усматривала что-то надуманное, неестественное, лживое, и это отталкивало ее от отчима.
Ей казалось, что сейчас, когда жизнь ломается и перестраивается в еще неясную и пугающую всех новизну, немолодому уже человеку следовало у того же Федора Ивановича Тютчева выбрать не «Последнюю любовь», а, скажем, «Новый век». Там есть строки, которые и через сто сорок лет волнуют так, будто написаны сегодня: