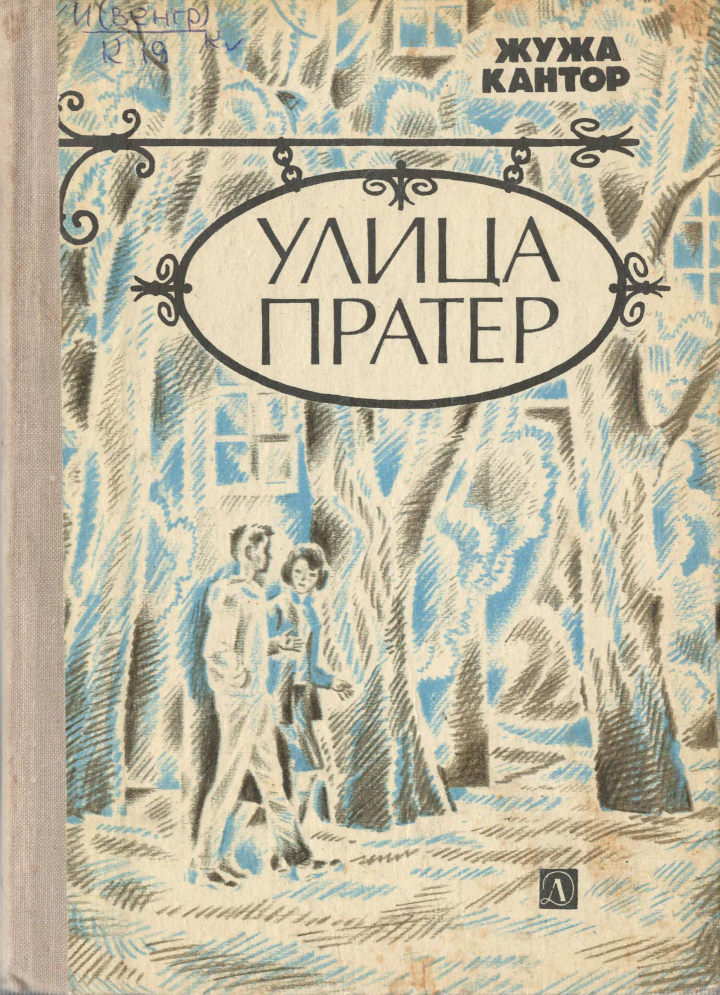Балигач провел по круглому лицу ладонью, вытирая слезы. — Моего сына единственного война забрала. Одна радость и осталась у нас с женой — этот парнишка. Его мы растили, любовались, как он, будто тополек, кверху тянется, взрослеет. Пока его родители в город не переехали, он у нас все время воспитывался. Какой же я был дурак! — стукнув по столу огромным кулачищем, простонал гигант и заскрежетал зубами. — Думал, если голову в песок спрячу, будто страус, то меня все беды минуют. Так вот я и жил, со всеми и во всем соглашался. Я никого не трогал, меня никто не задевал. Стыдно вспомнить. Отец мой весь свой век прожил, в земле копаясь. Всю жизнь в нее вложил, а чего добился? Ничего. А теперь вон у моих родственников, которые в кооперативе, какие дома в деревне стоят! Любо посмотреть! Да и мы здесь, в городе, разве плохо жили при новом-то строе? Мальчишка — он все это хорошо понимал. А я… Трус я был — одно слово. А теперь стыд и совесть меня гложут. Племянник куда больше меня понимал…
Я очень сочувствовал Балигачу. Мне он нравился. Мы с ним теперь частенько разговаривали. Это он, между прочим, шепнул мне по секрету, что старик очень расстроен. Другого он от меня ожидал, не думал, что засосет меня эта пучина. На таких дурачках, как я, говорил ему старик, и пытаются въехать в рай всякие негодяи, которые нашей кровью торгуют. А сами «наездники» собственную шкуру всегда успевают спасти. Они все уже давно стрекача задали и думать забыли о своих «лошадках».
Я видел, что дядя Шандор хорошо, по-отечески, ко мне относится, жалеет меня, но все же не так, как прежде. Не доверяет, что ли? А мне очень обидно. Между прочим, от Балигача я узнал, что старик, в то время как я его дома искал, находился в отряде рабочей гвардии, во внутренних войсках.
«Отличный дядька!» — часто повторял гигант.
А вообще дядя Шандор мало изменился. Остался, каким был: немногословным, серьезным, ловким в работе. Если я что напорчу в работе — отругает. Но после смены подзовет к себе, вместе со мной домой идет. До сих пор не могу простить себе: и как это я мог подумать, что он за границу сбежал?
По дороге домой он иногда рассказывал нам о себе, о своем детстве. Жил он тогда на окраине, в большом, черном от копоти доме. Жили тут особенно бедно: целый день гвалт стоял, пьяных полно, крик, ссоры. В детстве любил он, бывало, по лесу летом бродить, деревьями любоваться, птах по голосам узнавать. А вот зимой тяжелая пора наступала: одежонки, обуви не было, а школа — далеко…
Слушали мы его рассказы — дивились. Какое, оказывается, у людей детство трудное было. В семнадцатом в русском плену побывал, революцию увидел, боевого духа хлебнул…
О минувших событиях в Будапеште мы хоть и редко, но иногда вспоминали. Дядя Шандор этих разговоров никогда не заводил. Но и самим хотелось бы разобраться во многих непонятных нам вещах. Объяснял он немногословно, зато доходчиво. Что в октябре на площади перед парламентом огонь открыли с крыш домов по демонстрантам провокаторы вроде нашего Жабы. И достигли своей цели: подбили кое-кого «мстить за погибших товарищей». Точно такую же провокацию учинили эти молодчики и возле Дома радио. А теперь, когда пришло время ответ держать, истинные преступники, спровоцировавшие мятеж, первыми открывшие стрельбу, уже давно сбежали на Запад.
Дядя Шандор объяснял, а перед глазами у меня вставала картина того первого дня: колонна, идущая от парламента, паренек с повязкой на голове, за которым я шел будто загипнотизированный.
— Обманули ребят, — говорил дядя Шандор. — Гнусно обманули. Эх, скольким из них это стоило жизни!
Я покраснел: ведь это и обо мне он говорил, меня имел в виду.
С теплыми ветрами пришел март.
Готовясь к празднованию Дня пятнадцатого марта, город нарядился в торжественное убранство.
Однажды, возвращаясь с завода, я повстречался на площади Мате Залки с Жужей Ола. Она тоже шла домой из школы. Подошел к ней, вижу: она вся в слезах. Но, заметив меня, она быстро вытерла глаза, гордо вскинула потупленную голову.
— Что случилось? — спросил я. — Кто-нибудь обидел?
Жужа покачала головой: нет. На шее у нее был красный галстук. Да, многие отдали жизнь за красное знамя. В том числе и ее брат…
Некоторое время мы шли молча.
Я, право, не знал, приятно ли ей мое общество. Я решил спросить:
— Тебе что-нибудь обо мне рассказывали?
— Хорошего — мало, — честно призналась она. — Бакалейщица Котас тогда всем уши прожужжала: «Андришем Йовольтом гордиться надо!»
Снова помолчали, шагая рядом.
— Теперь это трудно объяснить, как все получилось, — покраснев, начал я. — Меня и не было среди тех, кто твоему брату зло причинил. Да и не сделал бы я ему зла никогда. Никогда!
Жужа посмотрела на меня своими жгучими глазами с косым татарским разрезом.
— Понимаю, — кивнула она. — Отец мне это все объяснил. Многие ребята просто не понимали, в какую гадкую историю их втягивают. Он сказал, что когда-нибудь, может быть через сто лет, напишут, каким трудным путем шло человечество к социализму. Через множество препятствий, рвов и ухабов. Бывало и так, напишут, что люди против своих же собственных интересов выступали. Например, во время событий в октябре пятьдесят шестого года в Венгрии… Я эти папины слова хорошо запомнила…
И я тоже их хорошо запомнил. И ни на минуту не сомневаюсь в их справедливости.
— Между прочим, если тебя кто хоть одним словом заденет, мне скажи. Ясно? Я с ним потолкую!
Я был счастлив, что иду рядом с ней. Наверное, и ей было хорошо со мной. Мы шли, разглядывали витрины магазинов, разговаривали, купили карамелек, потом букет подснежников.
— Ты на меня не сердишься? — спросил я ее уже в парадном.
— В детстве мы ведь дружили. А