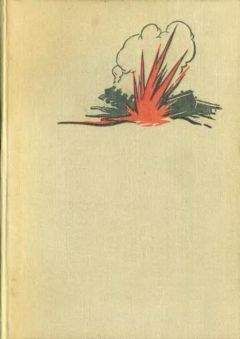— С кем ты и твой отец должны были встретиться в городе?
— Не знаю. Ни с кем. Мы шли домой.
Вопросы следовали быстро, один за другим. Шольц надеялся сбить мальчика, запутать его, поймать на необдуманном ответе. Но Витя отвечал равнодушно: «Не знаю, не видел, не был». Он казался спокойным, а на самом деле он весь был, как натянутая струна, и нечеловеческого напряжения стоило ему это спокойствие.
Это была очень тяжелая игра, потому что перед ним был хитрый и злобный враг.
— Мы тебя отпустим, — говорил Шольц вкрадчиво, и рыжая переводчица переводила Вите эти слова. — Я вижу, ты послушный мальчик, добрый мальчик. Ты не захочешь сделать больно своему отцу, своей матери. Ты сегодня же будешь дома. Для этого надо совсем немного: скажи, с кем вы должны были встретиться в городе? К кому ты шел?
— Я ничего не знаю, — потупясь, повторял Витя. Он считал, что, взяв их на квартире, немцы не могли точно знать, зачем они пришли. Они могли лишь догадываться об этом. Он не знал, что они уже выданы Вятченко и Аркашкой.
— Ах, как нехорошо, такой милый мальчик и говорит неправду, — Шольц встал из-за стола, подошел к Вите и попытался изобразить улыбку. — А как тебя звали в отряде?
Вопрос был настолько неожиданным, что Витя вздрогнул.
— Меня зовут Витя, — после короткого раздумья сказал он. — Я уже отвечал.
Шольц, довольно потирая руки, прошелся по комнате ему показалось, что мальчишка, наконец, растерялся.
— Не хочешь говорить? — ядовито усмехнулся он. — Напрасно. Мы и так все знаем. В отряде тебя называли «Витюсик». Так? Ви-тю-сик! Нам известно и то, с кем ты должен встретиться здесь, в городе. Мы хотим только уточнить, чтобы не губить невинных.
Витя смотрел теперь на носок своего расползшегося, грязного, когда-то желтого ботинка: он не мог уже отвлечься от того, о чем его спрашивали, и думать о другом. Они действительно знали, видно, многое, даже такую мелочь, как ласковое обращение к нему комбрига. Но от него они ничего не добьются — ни о партизанах, ни о городских патриотах, он не скажет ни слова. И Витя прикрыл глаза, готовый ко всему.
— А! Как я не догадался! — говорил в это время Шольц, покачиваясь на коротких толстых ногах. — Тебя страшит месть… Не бойся, это мы устроим. Ты убежишь из тюрьмы. Понял? Ты выдашь нам явки, и наши люди устроят тебе побег. Все ясно: был арестован, но сумел убежать. Ты совершенно чист! Ну, я жду, Ви-тюсик. Только явки — и ты свободен, — и Шольц взял мальчика за подбородок двумя пальцами.
Витя не сразу понял Шольца. А когда понял — дернулся, словно его ударили по лицу. Предложить ему такую низость! Значит, он ведет себя недостаточно мужественно! Значит, бандиты не видят его ненависти, его презрения, не понимают, что никогда, ни за что он не сдастся врагу. Он стиснул зубы, шагнул к Шольцу и с наслаждением изо всей силы ткнул кулаком в склонившееся к нему, расплывшееся в улыбке, уже торжествующее лицо.
Виктория Карповна ждала отца с сыном в Спасовке. Пора им уже прийти — сменить белье, отдохнуть, запастись продуктами. Она не спала по ночам; накинув на плечи полушалок, выходила на крыльцо, подолгу стояла, вглядываясь и вслушиваясь в черную тишину. Ни огонька, ни звука. Но мать терпеливо ждет. Вот сейчас донесутся осторожные легкие шаги — она узнает их издалека, — и стосковавшийся по материнской ласке сын бросится ей на шею. Нет, пуста и безмолвна ночь. И, тяжело вздохнув, полная тревог и сомнений, мать возвращается в дом, чтобы ждать и ждать и не смыкать глаз до утра.
От завернувшего в деревню партизана она узнала, что мужа и сына уже нет в лагере.
— До дому пошли, голубка, до дому, — говорил партизан, стаскивая отсыревшие сапоги и пристраивая их на шесток. — Зачем? Не знаю. Видно, есть дело. Без дела в наше время в город незачем соваться. Да ты не робей, — успокаивал он. — Вернутся твои соколы, непременно вернутся.
Виктория Карповна накормила и напоила партизана, починила его одежду, он отдохнул и пошел своей дорогой. Мать тоже начала собираться. Рассвет застал ее уже на пути в Феодосию.
С котомкой за плечами, уставшая и голодная, под вечер пришла она в город. На углу своей улицы повстречала соседку и узнала об аресте мужа и сына.
— Когда их взяли? — спросила мать.
— Вчера, Карповна, вчера на рассвете.
У Виктории Карповны хватило мужества выслушать спокойно эту весть. Но едва она свернула в ближайший переулок, как со стоном опустилась на камни.
Сердце матери! Сколько раз, склоняясь над изголовьем сына, в тревоге и надежде замирало оно. Каким-то ты будешь, сынок? Сын не обманул надежд. Он рос славным мальчиком. И радостно билось сердце матери: сын идет верным путем. Началась война, и опять заволновалось сердце. Что-то будет с ее птенцом? И снова она гордилась сыном и трепетала за него. И вот новый удар. Она ждала его, этого испытания. Гитлеровцы схватили их — и мужа и сына, словно оторвали часть ее сердца. Они терзают их, словно на клочья рвут ее сердце.
Но скорбь не поможет. Она лишь изгложет сердце. Надо бороться, надо вырвать их из пасти зверя.
Она переночевала у знакомых, а наутро пошла к тюрьме. У ворот толпились измученные горем люди. Тут были жены, добивающиеся встречи со своими мужьями, матери, жаждущие получить весточку о своих сыновьях. Но передачи не разрешались, свиданий не допускали. Все же толпа не расходилась. Виктория Карповна присоединилась к группе женщин, поделилась с ними своей бедой. Не было никакой надежды на то, что удастся добиться свидания с мужем и сыном. Но все-таки она продолжала ждать.
Возле тюрьмы стояли наготове две автомашины. Говорили, что кого-то будут отправлять в Симферополь. Дверь тюремной конторы то и дело открывалась. Выходили полицейские, гестаповцы. Виктория Карповна не заметила, в какой именно момент в дверях появился Витя. Он шел под конвоем двух гестаповцев. Она кинулась к нему:
— Мой сын!
Она успела разглядеть его и удивилась тому, как он возмужал. Он шел спокойно, прямо, высоко подняв голову и твердо ступая, и открыто смотрел вперед большими серьезными глазами.
— Витя! — крикнула снова мать.
Он услышал.
— Мама! — Он рванул связанные за спиной руки.
Он успел еще крикнуть: — Не горюй, мама! — и гестаповцы втолкнули его в машину.
— Сыночек мой! — Виктория Карповна, расталкивая людей, бросилась к машине, но полицай выставил вперед карабин. — Пусти, пусти! Это же сын, мой сын!
Машина затарахтела, дернулась и помчалась к выходу из города. Мать сникла, упала к ногам полицейского. Люди подхватили ее и понесли, бережно поддерживая безжизненную голову.
Занималось ясное, морозное утро, когда Витя очнулся. Он долго лежал, глядя в крохотное оконце. Солнце на воле сияло так ослепительно, что даже здесь, в камере, обычный полумрак расступился и были видны серые стены, грязный мокрый потолок. Тело ныло. Каждое движение причиняло боль. Сколько времени прошло с тех пор, как водили на допрос? Его избили до полусмерти, но, кажется, он ничего не сказал…
Когда, выйдя из ворот феодосийской тюрьмы, Витя увидел мать, он на миг подумал, что его выпустят, что мама пришла за ним. Но его посадили в машину и привезли сюда — в Старый Крым. Потом он узнал, что отец — в соседней камере, но увидеться с ним не смог.
Каждый день водили на допрос. Били, мучили. Он молчал… Устроили «расстрел»: поставили к стенке, и рыжий переводчик Михельсон, долго и старательно целясь сквозь очки, всадил в стену десяток патронов; пули щелкали, сбивали штукатурку над самой головой. Витя молчал… А потом, придя в себя, с тревогой вспоминал, не проговорился ли, не сболтнул ли чего в беспамятстве.
Здесь его держали в общей камере. Это было большим облегчением. Слово участия, ободряющий взгляд, осторожное прикосновение ласковых рук, обмывающих разбитое лицо, — как недоставало ему этого в феодосийской одиночке!
Теперь его окружали друзья. Камера была переполнена. Фашисты, зажатые в Крыму, как в мышеловке, свирепствовали. Малейшее подозрение, малейший повод — и человека швыряли в застенок.
Так попал в старокрымскую тюрьму и худощавый кареглазый подросток Валя Ковтун. Гестаповцы схватили его на чердаке: он прятался от мобилизации на работу. В карманах его куртки фашисты нашли переписанные от руки частушки, зло высмеивающие Гитлера.
— Дай мне только отсюда выбраться, — говорил Ковтун, сжимая кулаки, — я теперь дураком не буду. Сразу в партизаны уйду.
Витя крепко сдружился с Валей — они были почти одногодками, оба — феодосийцы, оба — пионеры, непокорные вражьим порядкам, фашистской власти.
Два раза в неделю — по средам и субботам — являлся гитлеровский офицер с переводчиком. Переводчик выкликал по списку фамилии арестованных, и их уводили, как говорили в камере, — «на луну». Они не возвращались. С ними прощались навсегда…