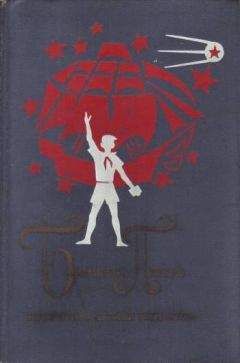— А этот самый… твой, ну этот… Дюльдяль тоже едет?
— Обязательно едет! — Он выпрямился, щелкнул языком, присвистнул и крикнул гортанно: — Угэ-гэ! Дюльдяль!
И тотчас звонкое, заливчатое ржание послышалось из большого вагона.
— Идем, покажу, — предложил Амед. — Честное слово, такой конь, царь никакой на таком не ездил…
Где-то на путях тренькнули буфера, заголосил паровоз. А вдруг это наш состав пошел?..
— Амед, погоди, — сказала я, — нам сейчас отправление могут дать.
— Что такое, честное слово, какое отправление?
Путаясь, в двух словах, как можно быстрее рассказала я Амеду о нашем эшелоне, о моих ребятах, о том, как тяжело мне было уезжать из Москвы, как страшно мне стало сегодня, когда я подумала, что туда уже нельзя вернуться.
— Почему нельзя? Что такое? — сказал Амед и наклонился вдруг ко мне. — Слушай, Сима, извиняюсь, правда, зачем нам ехать — один туда, другой сюда? Едем с нами! Я по нашей теплушке главный. Как «денгене» на вечеринке. Меня все слушают. Четыре коня у нас. Место будет. В чем дело, честное слово? Едем в Москву!
Минуту назад он мне казался еще совсем чужим, потому что очень изменился с тех пор, как мы расстались два года назад. А теперь, когда он наклонился близко, я снова разглядела его и увидела, что хотя он и вырос, стал шире в плечах и резче чертами лица, но все в нем осталось таким же. И застенчивые ресницы, под которыми мерцал веселый блеск черных глаз, и неподвижные у тесной переносицы, вздрагивающие у висков брови, и тонкий рот со сверкающими зубами, и высоко срезанные загорелые скулы. Ну конечно, это был тот самый Амед, с которым мы разглядывали Марс во время великого противостояния, и скакали на лошадях по пескам, и лазили в тростники Мургаба. Нашелся, нашелся Амед! И он ехал защищать Москву, мой город! И там, во фронтовой, верно, целиком занятой военными делами Москве, мыкался, может быть, Игорек, одинокий, бесприютный. А меня поезд увозил все дальше от Москвы…
«А что, если…»
Надо было решать мгновенно. И наш состав и воинский эшелон генерала Павлихина могли двинуться со станции каждую минуту… Я сама не знаю, откуда в такие минуты берутся и неслыханная дерзость и уверенность в себе, помогающие сразу решаться на самое трудное.
— Амед, — торопливо спросила я, и он понял, что я решилась, — Амед, ты только скажи: это можно? Не ссадят?
— Кто такое ссадит? — Амед положил руку на эфес шашки. — Кто смеет ссадить? Раз Амед Юсташ-Бергенов сказал: садись — всё! — Он оглянулся, добавил вполголоса: — Конечно, всем говорить, показывать не надо.
— Тогда стой здесь, я сейчас! — крикнула я уже на бегу, пролезла под вагонами, бросилась к своему составу.
Только бы успеть, чтобы поезд Амеда не ушел!
Я вбежала в свое купе, быстро собрала самые необходимые вещи и одеяло, наскоро свернула, завязала узлом, подхватила свой чемоданчик. Прежде чем укладывать зеркало, успела глянуть в него. Нечего сказать, вид… Я поправила волосы. Потом огляделась… В купе никого не было. Ребята стояли снаружи, у подножки вагона. Мне трудно было бы пройти мимо них не прощаясь, да они бы и заметили. А что я могла им сказать? Поэтому я соскочила на другую сторону пути, обежала наш состав, и только когда была уже далеко от своего вагона, крикнула: «Люда, Галя! Скажите Анне Семеновне, что я срочно уехала в Москву… Прощайте!» Они, кажется, не расслышали или, может быть, разобрали, да не поверили своим ушам.
А я уже нырнула под другой состав. Вот и эшелон с бойцами, конями, повозками генерала Павлихина. Я запомнила его по новеньким вагонам. Но до вагона Амеда было еще далеко, а в этот момент паровоз прогудел, дернул состав и двинулся. Роняя вещи, подбирая и запихивая их на ходу в узел, спотыкаясь, бежала я что есть силы, а поезд все ускорял и ускорял свой бег. Я догнала вагон, но не могла взобраться в него, и мне казалось, что все уже потеряно. Я стала отставать, как вдруг чьи-то руки сверху подхватили меня под мышки и втащили в высокий вагон.
И сразу вокруг меня стало темно и спокойно.
— Салам! — сказал кто-то.
Я отдышалась и увидела, что стою в теплушке, Амед держит мой чемодан. А другой, высокий, в косматой шапке, пожилой, подбирает с полу мои рассыпавшиеся из узла вещи.
— Салам! Здравствуй, пожалуйста…
— Ай-ай, думал, не сядешь! — сказал Амед и засмеялся.
И вокруг нас и сверху все засмеялись, свешиваясь с нар. Тут только я стала как следует соображать, что же я наделала, как я могла на такое решиться…
За моей спиной топали по деревянному настилу вагона лошади, пахло конюшней — сеном и навозом. Висели торбы с бахромой. С вагонных нар смотрели на меня загорелые, скуластые джигиты. Но среди них были и два русских парня-кавалериста. И один из них крикнул:
— Что ж стоите, девушка! Занимайте место согласно взятому билету.
И Амед торопливо заговорил:
— Правда, что такое, честное слово, ты садись, пожалуйста, вот сюда. Это вот нара, весь уголок твой будет. Я уже всем сказал. Вот тут попону, чапан мы повесили. Видишь, получается чистая квартира.
— Каюта люкс! — крикнули сверху.
— Как же я так поеду? — растерянно бормотала я, оглядываясь. — Ой, что это я, Амед, такое наделала! И ребят бросила… Правда, там на мне только четверо оставались, с ними вполне Катя Ваточкина управится и Анна Семеновна… Все-таки мне, может быть, лучше слезть?..
— За вход и выход на ходу три рубля штраф! — прокричал сверху тот же веселый голос.
— Зачем себя так беспокоишь? — увещевал меня Амед. — Что такое? Напрасно совсем такое беспокойство. Доедешь совсем хорошо. Бойцы тебя смотри как уважают. Ты у нас гость. Чего боишься? Это раньше нас называли «Дикая дивизия» — текинцев так звали. Теперь другой разговор.
— Теперь разговор совсем получается другой, — поддержал Амеда высокий пожилой туркмен. — Текинец был — дикая дивизия, стал совсем культурный. Знаешь, как в нашей старой книге написано? «Так Джигады-бек говорит: гость твой всегда пусть будет сыт…» Садись, кушай, пожалуйста. Нам Амед сказал, ты Георгия, товарища Крупицына, сестра будешь. Очень уважаемый человек. Ему Москва сказала: «Георгий-джан, веди воду». Товарищ Георгий ведет воду.
Мне отвели отдельный уголок, завешанный попонами и плащ-палатками, положили мне седло под голову, накрыли нары мягкой кошмой. Сперва я с опаской поглядывала на этих высоких, длиннобровых, скуластых бойцов. Некоторые из них почти не понимали по-русски; глаза у них были диковатые, но, когда они смотрели на меня, лица их будто веселели, смягчались. Я несколько раз слышала, как они называли имя моего брата Георгия. А Амед, счастливый, гордый, помог мне разложить мои вещи и, довольный, поглядывал на своих джигитов, почтительно и неспешно разговаривавших со мной. Только когда пожилой боец — его звали Курбан — вежливо спросил: «Эта девушка, Сима-гюль, будет твоей матери гелин?» — Амед смутился и что-то сердито и долго говорил ему по-туркменски. А Курбан смущенно качал головой и высоко разводил руками, виновато глядя на меня.
А потом мы ели, сидя на кошме, расстеленной на полу вагона. Меня угостили холодным пловом с бараниной, кашицей из растертой джугары, которая мне, правда, не очень понравилась. Пришлось мне попробовать также отвар бураков с кунжутным маслом. Зато кази, колбаса из конины, оказалась очень вкусной. Курбан очень жалел, что не может попотчевать меня чалом — туркменским напитком из верблюжьего молока. Но я уже один раз пробовала его и не очень жалела, что его не оказалось. А потом вынули из-под нар великолепную чарджуйскую дыню, и Курбан, ловко орудуя ножом, вскрыл ее, благоуханную, заполнившую сразу весь вагон своим ароматом. Казалось, что у нее самой потекли слюнки от собственной сладости. Курбан, как фокусник, с удивительной быстротой нарезал дыню на ломтики и первой, как гостье, дал с ножа мне.
Так я сидела на кошме вместе с туркменскими джигитами, которые ехали защищать Москву, и уплетала дыню.
— Нас Москва зовет, — объяснял мне Курбан. — Туркменские конники у генерала Павлихина очень хорошие джигиты. Большой поход ходили. Помнишь? Теперь народ говорит: немца надо гнать от Москвы. А, как написано в наших книгах, Джигалы-бек так говорил Кероглы: «Слушай, что говорит народ. Радуйся, что тебя он зовет».
— Ну, пропало дело твое, Сима! Совсем теперь замучает, — шепнул мне Амед. — Он у нас вроде бахши — у него стихов целая голова, полный рот.
— Георгий, товарищ Крупицын, твой брат, очень уважаемый человек, — продолжал Курбан. — Мы с ним имеем большое знакомство. Потому что знаешь, как написано в наших книгах: «Мудрый с мудрым воздухом дышит одним. Дуралей влеком к дуралеям всегда». — Курбан выразительно поглядел в сторону двух смешливых кавалеристов и степенно продолжал: — «День и ночь мы к любимым думы стремим… — Он посмотрел на Амеда и на меня и, сделав такое сладкое лицо, что я чуть не фыркнула, продолжал: — Вспоминаем, вздыхаем, томимся всегда…»