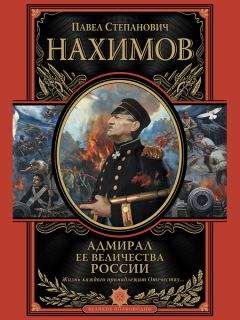Санька прижался к каменной квадратной опоре колокола.
"Видит, на море черная буря, – подумал он. – Стал он кликать золотую рыбку…"
Но кликать было некого. Одиссей был в плавании. Берег пустой. Море пустое.
Нет, Санька не ощущал большой грусти. В эти дни, что бы ни случилось и какое бы ни было настроение, Саньку всегда грела мыль, что есть на свете веселый, неустрашимый Юрос и сегодня они обязательно увидятся снова.
Но сейчас у Саньки было чувство, будто он что-то потерял. Или, точнее, хотел встретить кого-то и не встретил…
Наконец Санька послушался ветра, отошел от обрыва и, цепляясь брюками за колючки, пробрался к своей колонне.
Тронул ее, привычно обрадовался теплу мрамора. Но подумал сейчас не об Одиссее и не мальчике из будущего, а опять о Юросе.
Однако эта мысль была мимолетной.
Санька снова стал смотреть в изрисованное пенными полосами море. Облака над морем и над Санькой двигались беспросветными толпами.
"Ой-ей-ей, оказаться сейчас на яхте среди таких волн", – зябко подумал Санька. Шторм был совсем не похож на тот, в который Санька попал в августе.
Наверно, в такую погоду и погиб "Везул"…
В таких волнах погиб юнга Андрей Шуширин…
Да, в таком бешеном море можно потерять голову.
"Но если ты не один, если тебя не бросили, можно и выдержать, – успокоил себя Санька и опять вспомнил Юроса. – А у этого Андрюшки просто не было друга…"
Он отбросил эту мысль. Потому что она толкалась туда, куда Санька не хотел ее пускать. И он стал думать о другом. О том, кем бы стал юнга Андрюшка, если бы вырос. Может, офицером? Или матросом? Наверно, все равно он оказался бы на севастопольских бастионах в пятьдесят четвертом году прошлого века. Уже взрослый, усатый, крепкий. Как тот бронзовый матрос, что стоит с ядром в руках у памятника Корнилову.
"Отстаивайте же Севастополь…"
Ну пускай в названиях кораблей на оборотной стороне памятника не дописаны твердые знаки. Наверно, все-таки не в них главное. Главное – в этих словах, что впереди.
Санька сжал зубы.
Если надо, он будет отстаивать. Пускай он не самый смелый, пускай Эмка говорит, что ребенок. Но если надо он защитит и бастионы, и город.
"Но ведь город – это люди…"
Санька мотнул головой, чтобы прогнать продолжение мысли, но она уже толкнулась:
"А Димка?"
Море тревожно гремело. И другие моря на Земле тревожно гремели. И на свете было неспокойно. Город знал это и жил в готовности, как живет в готовности военный флот. Но все же сейчас были здесь мирные дни, и никого пока не надо было защищать и отстаивать. Среди тех, кого знал Санька, никого. Почти…
Кроме одного человека. Того, кто оказался будто на скользкой штормовой палубе один-одинешенек.
Если человек сорвется с палубы, его потом недосчитаются на каком-нибудь бастионе.
Может быть, на Девятом?
"Да выдумал ты все", – с жалобной досадой сказал себе Санька. Но другой Санька, более откровенный (или Одиссей, или тот мальчишка из будущих далеких лет, или просто-напросто храбрый и честный Юрос), хмуро ответил:
"Не ври ты…"
И Санька больше не стал врать себе, будто не помнит, как глядел тогда ему в спину Димка Турчаков. Не стал врать, что не помнит размытого адреса…
Санька еще раз погладил колонну и медленно пошел среди кустов и руин. Сначала медленно, потом торопливей и решительней.
А ветер толкал, толкал его в спину, будто лишь для этого и разгулялся над берегами, похожими на неприступные бастионы.
ЗАЯЦ МИТЬКА
Сентиментальная повесть обо всем понемногу[1]
1
Митька на меня обиделся. И вполне справедливо. Потому что я поступил по-свински, забыл про него, когда пришли гости.
Гостями были двое ребят из парусной флотилии «Каравелла», командором которой судьба сподобила меня быть уже тридцать лет и три года. Впрочем, ребята пришли отметить не эту дату, а другую, отмеченную тоже двумя одинаковыми цифрами: в ту пору годы мои неутомимо катились к отметке 55. Возраст, прямо скажем, не юношеский, радоваться нечему, но все же я бодро выставил на середину своей «каюты» журнальный столик с нехитрым угощением.
А ребята выставили квадратную бутылочку с романтическим парусником на этикетке. Я для порядка покачал головой и поцокал языком: мол, этому я учил вас в нашем славном морском отряде?
Гости сдержанно погоготали. Потому что ребятами они оставались теперь лишь в моей памяти, а на самом деле были таковыми в конце шестидесятых. А сейчас – люди вполне солидные, обремененные собственными детьми, женами и семейными заботами…
До поздней поры сидели мы тут, среди стеллажей со старинными лоциями, среди штурманских карт, морских пейзажей и парусных моделей. Тикал корабельный хронометр, позванивали вилки и шла неторопливая беседа. Мы вспоминали…
Вспомнить было про что. И про первый наш парусник, сделанный из корпуса старой моторной лодки, и про наши фанерные яхты с гордыми именами: «Атос», «Портос», «Арамис» и «Д’Артаньян», и про шквалы на нашем неспокойным Верх-Исетском озере. И про всякие дальние путешествия. Например, про плавание на пароходе «Адмирал Нахимов» из Севастополя в Сухуми.
Пароход попал тогда в крепкий шторм. Клочья пены летели на палубу. От качки и ветра сам собой звонил на баке судовой колокол. Пассажиры полегли по каютам. А мальчишки и я торчали на верхней палубе, вдыхая и впитывая в себя этот разгул морской стихии. Было ничуть не страшно. Пароход был стар, но крепок. Он уверенно разрезал старомодным вертикальным форштевнем зеленые валы. Дым его двух громадных труб смешивался с низкими клочкастыми облаками. «Адмирал» верил в себя. Он, конечно, не ведал о своем будущем, о страшном конце на дне Новороссийской бухты. Впереди у него было еще ровно двадцать лет…
Около полуночи я проводил своих капитанов до лифта и вернулся в каюту… И горестно охнул. Митька сиротливо сидел в уголке у электрического камина и с немым упреком, с тоскою даже смотрел на меня бело-черными пластмассовыми глазами.
– Ох я дубина! Прости меня, малыш…
Митька не должен был сидеть здесь, в одиночестве. По традиции полагалось ему, когда приходили гости, устраиваться рядом со мной на диване и слушать разговоры. А гостям следовало время от времени обращать на Митьку внимание и вспоминать интересные случаи, которые с ним, с Митькой, в разные годы имели, как говорится, место. Кроме того, этикет требовал, чтобы Митьке время от времени давали пригубить кофе, а иногда и кое-что другое. А сегодня… Ой-ёй-ёй! Как же это я? Видимо, в самом деле стар стал!
– Иди ко мне, мой хороший. Не сердись…
Я плюхнулся на диван, усадил Митьку верхом себе на колено. Подхалимски потрепал его по длинным, штопанным-перештопанным ушам.
Когда-то под материю были вставлены узкие петли из стальной проволоки, и Митькины уши торчали бодро и упрямо. Но теперь они превратились в два истрепанных лоскутка из серой диагоналевой ткани (такая лет тридцать назад шла на «стильные» пиджаки). Кстати, и весь Митька сшит из этого же материала. Ткань порядком замызганная, от упругости в ушах не осталось и следа. Как ее, упругость-то сохранить, если за уши беднягу таскают по улицам и лесам-полям, вздергивают на мачту для просушки, привязывают ими к яхтенному штагу и к поручням… Что поделаешь, раз ты не простой заяц, а корабельный…
Спереди, под правым ухом, у Митьки легкомысленная (как у Шуры Балаганова) лоскутная оранжевая кепочка с зеленым козырьком, тоже порядком измочаленная. Близко посаженные глаза – с молочными белками и угольными выпуклыми зрачками. Не косые, как у обычных зайцев, а, скорее, щенячьи. Очень осмысленные. Нос – черная пластмассовая кнопка. По бокам от носа – два суконных кружочка. Этакая симпатичная мордашка. Между суконных щек торчит красный язычок, тоже суконный. Все сукно, конечно, давно потемнело и задубело от многочисленных угощений… А, вот еще что! Над левым глазом – матерчатая бровь. Неподвижная, но очень выразительная.
Сейчас бровь выражает горькое недоумение: как же ты мог про меня забыть?
– Ну, не сердись на старого растяпу, Мить. Не обижайся…
Митька не умеет сердиться и обижаться долго. Сто ит его вспомнить, пожалеть, слегка подлизаться к нему, и вот пластмассовые глаза блестят совсем по-хорошему, ласково и слегка озорно. И в то же время на морде появляется вопрос: «А что интересного ты мне скажешь?»
Я ничего не успеваю сказать. Умело открыв растопыренной лапой дверь, появляется рыжий кот Макс. Издав ревнивое урчанье, прыгает на диван. «Почему это ты с ним занят, а не со мной?» Ладно, я пригреваю под боком и Макса. Но, машинально почесывая брюхо млеющего кота, я все внимание отдаю Митьке. Мысленно говорю ему:
– Давай, старик, повспоминаем, что было…
Митька излучает радостную готовность:
– Давай!
Видимо, для него вспоминать – это заново переживать прошлые события. Впрочем, и для меня тоже.