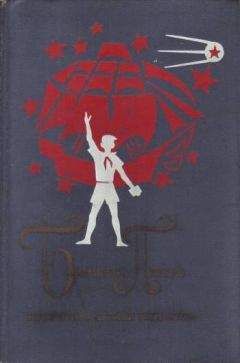— Это наш великий Махтум-Кули так писал, — пояснил мне тихонько Амед.
— Верно сказал Амед, — подтвердил Курбан. — Молодой, а много знает. А еще знаешь, как Махтум-Кули сказал? «Сотни трусов дороже один смельчак: он защитит народ и отчий очаг…»
И долго еще пояснял мне Курбан, что пошли защищать Москву самые лучшие туркменские джигиты. И чодоры с восточного побережья Каспия, и иомуды с реки Гургена, и сарыки с Мургаба, и гоклены с Артека, и теке из Мервского оазиса, и древнейшие племена силоры, и ерсари…
А потом мне показывали коней. И лучший среди лучших был, конечно, Дюльдяль. Он был и вправду хорош — красавец! Широкая, массивная грудь, мускулистые ноги, а голова квадратная во лбу, с чуточку вогнутой переносицей. Он осторожно перебирал ногами и отставлял высоко поставленный хвост, серебристый, густой, как целый ворох ковыля. Весь он был словно точеный, продолговатый, легкий. Глаза у него были горячие и умные; под гладкой, темным золотом отливающей шерстью бегали живчики мускулов; все в нем так и ходило ходуном, все пружинило и играло, являя собой веселую силу и благородную стать.
— О Дюльдяль! — ласково говорил Амед, похлопывая Дюльдяля по длинной шее. (И конь, кося на меня крупный и яркий глаз, делал вид, что кусает Амеда, осторожно сжимая длинными зубами, видными из-под приподнятой подвижной губы, руку хозяина.) — О Дюльдяль, что такое? Зачем такие шутки?.. Смотри сюда, Сима, смотри, какие ноги! Сто верст в день может пройти. Целую неделю так может, каждый день. Самая лучшая порода. Слышала, были наджеди — арабские лошади, лучше нет! Наши туркменские кони от них… Ой, Дюльдяль, я тебя… — Он бережно оглаживал шелковистую гнедую, с золотым отливом шерсть, а конь следил за хозяином веселым и понятливым глазом. — Знаешь, Сима, откуда так зовут «Дюльдяль»? Был такой богатырь Кероглы, сын Могилы. Конь у него был — Кыр-Ат, от Дюльдяля. А когда у меня стал этот конь, я назвал его Дюльдяль.
— Любит он тебя? — сказала я Амеду.
— Любит! — И Амед засиял от удовольствия. — Верный конь! А я ему верный хозяин. Друг друга любим… У, Дюльдяль, иэ-ге!..
И долго он еще осыпал Дюльдяля смешными, милыми, ласкательными именами. И говорил ему что-то — то по-русски, то по-туркменски, а конь терся своей длинной точеной головой о загорелую щеку Амеда. В конце концов мне даже наскучили эти нежности.
— Может быть, ты и со мной теперь поговоришь? — сказала я.
— Конечно, какой вопрос!.. — встрепенулся Амед. — Очень много, Сима, будем говорить. Надо то спросить, надо это. Сейчас, только одна минута, извиняюсь, — немножко Дюльдялю кушать дам.
И он пролез под перегородкой, отделявшей половину вагона, где стояли кони. Пока он там гремел ведром, возился и за что-то бранил Дюльдяля, со мной разговорился русский конник. Оказалось, что его звали Семеном Табашниковым. И он раньше был пограничником в Кушке, а потом работал в совхозе, где Амед был комсоргом. Он был такой загорелый, и в то же время белесый, что напоминал негатив фотографии. Лицо у него было совершенно черное, а глаза очень светлые, совсем голубые, и волосы выгорели добела. Выяснилось, что Амед, пока я бегала за вещами, успел уже все рассказать про меня.
— Это вы участвовали в кино «Мужик сердитый»? Амед давеча сказал, — любопытствовал Табашников. — Очень замечательная картина. Сильно вы свою роль исполняли. Я три раза ходил. Как вы там с Наполеоном-то… Эх, комедия! А сколько платят, если съемку делают?
— Ты что, Табашников, в артисты захотел? — спросили с верхней нары.
— А что? Свободное дело, — отвечал Табашников. — Меня уже один раз в кино сымали. Только даром. Когда в Кушке служил, там сымали из жизни пограничников. Только так я картины и не видал.
— Не получилось: лента от твоей рожи лопнула, — подтрунивали сверху.
А Курбан почтительно осведомлялся, кто мои уважаемые родители и здоровы ли они.
Потом все занялись уборкой лошадей, задали им корма на ночь. На улице быстро стемнело — ведь была уже осень, октябрь. Задвинули тяжелую вагонную дверь на роликах. Стала и я устраиваться на ночь в своем уголке. У меня там было очень уютно, за занавеской из попоны и двух плащ-палаток, которые отгораживали меня от остального пространства нар. По другую сторону этой завесы расположился Амед.
Поезд остановился на какой-то станции, и кто-то шел вдоль вагонов, стучал и строгим голосом спрашивал что-то по-туркменски и по-русски у каждого вагона. Постучал он и в наш.
— Табашников дневалит. Я! — отвечал мой новый знакомый.
Он сидел на седле, положенном на пол у двери вагона. Остальные скоро все заснули. Вагон мягко покачивался, успокаивающе перестукивались под полом колеса; сонно пофыркивали, громко хрумтели сеном, иногда переступали копытами, почесывались о перекладину кони. А я лежала в своем тесном уголке и думала о том, как все странно и неожиданно получилось. Совесть понемножку отпустила меня.
«Нет, все-таки мне в жизни очень везет, — подумала я. — Вот я хотела попасть обратно в Москву — и еду. Хотела повидать Амеда — встретила». Но всегда в жизни меня кто-то ведет за собой. Вот и сейчас… Где-то впереди машинист гонит свой паровоз, паровоз тащит вагоны. А в одном вагоне — я. И там, за плащ-палаткой, — мой друг Амед. А как было бы страшно остаться одной на той станции с путаными путями, с составами, которым конца-краю нет! Мне даже и сейчас стало страшновато. И я шепотом спросила:
— Амед… спишь?
За плащ-палаткой заворочался обрадованно Амед.
— Зачем спишь? Все думаю разное. Никак заснуть не могу, что такое!
— И ты думаешь?.. Ну давай тогда разговаривать.
— Давай разговаривать, — послышалось по ту сторону плащ-палатки.
— Ну, про что будем разговаривать?
(И мне тут же вспомнился Игорь: «Поговорим об серьезных вещах». Где он, мой мальчуган?)
— У-у, Сима, столько разговаривать надо! Одно спросить, другое…
— Ну, спрашивай, — сказала я шепотом.
Из моего уголка был виден то раздувающийся, то едва тлеющий, покачивающийся огонек. Это светилась цигарка дневального Табашникова, курившего в щель двери. Амед молчал. Мне показалось, что он заснул.
— Ты что там, спишь? — тихонько спросила я.
— Ну зачем спрашиваешь? — в голосе Амеда послышалась обида.
— А про что же ты хотел спросить меня? Помнишь, Амед, ты в письме писал, когда в Москву собирался, что хотел что-то спросить…
— Это будем в другой раз говорить, — сказал Амед, и я услышала, как он задвигался на своей наре. — Как войны уже не будет.
— А нехорошо, Амед, что я ребят бросила, а? Неладно это все… И попадет мне. Ты только не думай, пожалуйста, что я из-за тебя…
— Конечно. Кто думает! Я понимаю так: в Москву захотела. Отец там, мать там…
— Просто я считала, Амед, что все равно не могу без Москвы. А как ты думаешь, отобьют от Москвы? Не пустят?
— Ни за что, нет!.. Смотри, сколько народу — все за Москву.
— Я тоже почему-то уверена, что не пустят немцев в Москву. А все-таки страшно, Амед…
Некоторое время мы молчали, думая каждый о своем. Потом Амед спросил:
— А как мы с тобой звезду Марс смотрели, помнишь?
— Планету, Амед, планету! Я же тебе объясняла.
— Пускай планету. Пускай звезду. Пускай солнце. Все равно… Сима, знаешь, как в одной книге у нас написано: «Мне мало одного солнца на небе…»
После этого мы опять надолго замолчали оба.
— Скорей бы в Москву приехать! — сказала я потом. — Непременно где-нибудь Игоря разыщу. Ты знаешь, Амед, как меня Игорь беспокоит!
Опять было долгое молчание. Я слышала, как Амед привстал и, должно быть, сказал в самую завесу, потому что я услышала голос очень близко:
— Сима, а этот… твой знакомый… Игорь, он тебе большой друг?
— Конечно, друг… Да нет, ты не то думаешь, Амед, он же в пятом классе. Это пионер мой.
Я слышала, как облегченно вздохнул Амед. Потом он неуверенно спросил:
— Сима, есть один такой еще вопрос: как здравствует-поживает твой уважаемый знакомый, товарищ Роман Каштан?
Тут я уже не удержалась — начала тихонько смеяться.
— Мой уважаемый знакомый, товарищ Каштан, здравствует-поживает очень хорошо. Он сейчас на укреплениях… Ой, Амед, ты ужасно до чего смешной! И я ужасно рада, что так хорошо получилось и мы встретились опять. Я очень тебя хотела видеть. А ты?
— Зачем спрашиваешь… Знаешь, как я о тебе думал — у-у, сколько думал: какая она стала, Сима? Два года не видал. Два года все думал. Мать спрашивает: «Что ты все думаешь, Амед?» Я ей говорю: «Мне есть что думать». Думал, думал, никак не знал, что такая стала.
— А какая я стала?
— Такая стала… трудно сказать, какая!
— Ну какая? Брось ты, Амед, это ты так говоришь! Как бровей не было, так и сейчас почти нет… веснушки…
— Ну как тебе не стыдно! — рассердился Амед за плащ-палаткой. — Зачем еще брови тебе, когда глаза такие! И веснушки совсем мало заметно. Нет, ты очень красивая стала.