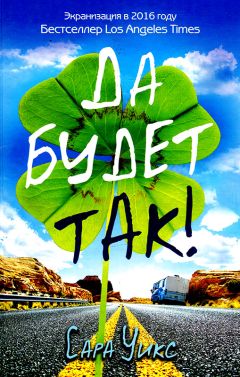Я всегда была настороже, ожидая, когда она его скажет. В те редкие моменты, когда она это делала, я вцеплялась в нее, пытаясь узнать, что она имеет в виду. Однажды мама произнесла его, когда наблюдала за тем, как Берни причесывает меня после ванны. В другой раз она сказала его, порезавшись о край крышки консервной банки, которую пыталась открыть. Но она делала это без всякой логики. Я много раз расчесывала перед ней волосы, пытаясь заставить ее снова сказать «сооф», но безуспешно. Каждый раз она произносила его совершенно случайно.
Я начала слышать его в других местах — просыпаясь ночью во время грозы, и в шуме машин, проезжавших под окнами, когда их шины шуршали: «сооф». Иногда его нашептывали шлепанцы Берни, когда она шаркала ими по стертому линолеуму по пути от раковины к нашему неказистому холодильнику.
Часами я смотрела в мамины глаза, представляя, что где-то там, в глубине, лежит маленький сверток, ждущий меня, с ярлычком, на котором написано: «это сооф».
Я стала плохо спать. Бернадетт научилась держаться от меня подальше, когда я недосыпала, — она повидала немало сонных кошек, чтобы знать, как увернуться от их когтей и сердитого шипения. Но когда мое плохое настроение затронуло маму и она стала часто насупливаться, Бернадетт потеряла терпение и набросилась на меня:
— Хайди, я сто раз тебе говорила и еще раз скажу. Есть вещи, которые нам не дано знать, и что значит слово твоей мамы — одна из таких вещей. Чем быстрее ты с этим смиришься, тем лучше будет для всех нас.
Может, она была и права. Может, пришло время сдаться. И почему я думала, что это слово так важно? С тем же успехом оно могло быть бессмыслицей, чепухой, которую мама услышала от кого-то на улице. Я говорила это себе снова и снова, надеясь заставить себя в это поверить. Может, я бы и поверила, если бы однажды не нашла тот фотоаппарат в липком нижнем ящике кухонного шкафа, где мы держали разные мелочи, вроде свечек для торта и резинок. Я искала клейкую ленту и открыла ящик так резко, что он выпал на пол. Там я и увидела черный фотоаппарат «кодак», а внутри него — рулон использованной пленки.
По-настоящему мой поиск правды начался, когда я проявила эту пленку. В тот день, когда я пришла домой с проявленными фотографиями, Бернадетт сидела за кухонным столом и читала библиотечную книгу о сумчатых.
— Вот бы у меня была такая сумка, — произнесла она. — Было бы очень удобно хранить в ней очки для чтения.
Я положила конверт с фотографиями перед ней на стол. Она закрыла книгу, даже не отметив место, на котором остановилась.
— Скажи честно, Хайди, — сказала Берни, беря желтый конверт и поворачивая его в руках, — ты заглядывала в него по пути домой? Это ничего, если ты не удержалась.
— Нет. Мне было страшно, — призналась я.
— Что там может быть страшного?
— Ничего. Самое страшное, если там ничего не будет, — прошептала я.
— Ну что же, солнышко, давай посмотрим, — мягко произнесла она, просовывая палец под клапан и открывая его. — Давай возьмем и посмотрим.
Всего в конверте было двадцать три фотографии. Столько, сколько слов знала мама. Некоторые фотографии оказались такие размытые, что невозможно было понять, что на них изображено, но большинство все же были четкими. Все они были сделаны на рождественской вечеринке. На некоторых был изображен переодетый Санта-Клаус с белой ватной бородой, стоявший рядом с кособокой елкой, увешанной бумажными гирляндами и блестящими самодельными шишками. Некоторые люди на фотографиях держали в руках подносы с пуншем и печеньем, другие сидели в инвалидных колясках или, ссутулившись, расположились на оранжевых и бирюзовых пластиковых стульях с тонкими металлическими ножками.
— Кто эти люди? — спросила я, тщательно разглядывая каждую фотографию, перед тем как положить ее в стопку с остальными.
Берни сидела рядом на диване, наклонив свою голову к моей.
— Похоже, что это какой-то клуб, и они празднуют Рождество, — предположила она.
— Почему они все такие странные?
— Инвалиды, ты хочешь сказать? — уточнила Берни. — Наверное, это больница или интернат.
— И кто сделал фотографии? — спросила я. — Может, мама?
— Не думаю, что она умеет фотографировать, солнышко.
— Но кто тогда? И как фотоаппарат оказался у мамы?
Берни покачала головой:
— Не знаю, дорогая.
На нескольких фотографиях я увидела одних и тех же трех девочек-подростков с тяжелыми веками, одетых в плохо сидящие на них вечерние платья. Были еще две фотографии юноши восемнадцати-девятнадцати лет с взъерошенными волосами. У него были очень красивые глаза — темно-голубые, почти черные, — но голова клонилась в сторону под странным углом, а рот кривился в гримасе то ли радости, то ли боли. На одной из фотографий мужчина в костюме Санта-Клауса стоял позади юноши, обнимая его одной рукой за плечи. Никто из них не улыбался. Санта был очень высоким и худым и забыл набить костюм ватой, так что он неопрятно висел мешком у него на талии. Его обычная одежда — ворот рубашки, галстук и отвороты брюк торчали из-под красно-белого костюма с такими короткими рукавами, что его костлявые запястья высовывались из белых манжет сантиметров на десять. На одной руке у него были золотые часы.
— Ну и тощий этот Санта, — заметила я.
— Меня больше волнует не его сложение, а то, что говорят его глаза, — задумчиво произнесла Берни.
— Как ты можешь что-то разглядеть под этими огромными накладными бровями? — удивилась я.
— Могу, — сказала она.
После этого мы рассмотрели еще несколько фотографий: кто-то стоял рядом с наряженной елкой, кто-то ел печенье. А затем я взяла в руки размытую фотографию женщины средних лет со светлыми волосами в красном свитере с оленем. Женщина стояла перед огромным, сложенным из камня камином, обнимая за плечи улыбающуюся девушку с широко расставленными голубыми глазами. Я сразу поняла, что это мама.
— Она здесь довольно толстая, — сказала я.
— Или беременна, — предположила Берни.
— Мной, да? — спросила я, продолжая изучать фотографию.
— Скорее всего, — сказала она, беря у меня снимок и внимательно его рассматривая. — И думаю, что женщина в красном свитере — твоя бабушка.
Я забрала фотографию у Бернадетт и снова уставилась на женщину со светлыми волосами:
— Да? Откуда ты знаешь?
— Посмотри на ее глаза, Хайди. Что скажешь?
— Они похожи на мамины, только не так широко посажены.
— Они похожи на твои, солнышко, — мягко сказала Бернадетт.
Мы просмотрели все фотографии несколько раз. Многие были сделаны в том же помещении, где проходила вечеринка, но на одной рядом с деревянным крыльцом стоял большой указатель с зеленой надписью: «Хиллтоп-Хоум, Либерти, штат Нью-Йорк».
— Надо показать их маме, когда она проснется! — радостно произнесла я. — Она знает, кто это, Берни! Она там была.
— Да, была, солнышко. Но ты знаешь, что твоя мама может и саму себя не узнать на фотографии. Тем более на старой.
— Берни, а может, когда мама увидит эти фотографии, она сразу все вспомнит, как от удара молнией? — Затем меня осенило: — Может, сооф тоже на фотографиях!
— Может, и Так, — согласилась Берни, но я видела, что она в этом сомневается.
Пока мама спала, я, словно кувшинка, плыла по водам своего маленького пруда надежды. Я убивала время, снова и снова выискивая Либерти, штат Нью-Йорк, в географическом атласе и в десятый раз прижимая пальцем то место, где находился Хиллтоп-Хоум, — место, где моя мама и, может быть, бабушка стояли у большого камина, позируя для фотографии. Я думала о том, кто сделал снимок и как вышло, что мы с мамой оказались так далеко от Нью-Йорка. Я задавалась вопросом, где сейчас моя бабушка и стоит ли по-прежнему в Либерти Хиллтоп-Хоум. Я уже собиралась пойти спросить у Берни, не можем ли мы позвонить в справочную службу, когда услышала, как мама заворочалась и позвала нас из соседней комнаты.
Бернадетт незадолго до этого пошла к себе в квартиру покормить кошек, Клару Бартон и Печеньку, названных так в честь одной из ее любимых известных женщин и в честь моего любимого вида мороженого[5]. Кошки никогда не приходили к нам в квартиру — когда они хотели есть или чувствовали себя одиноко, то становились на пороге и звали Берни. Я волновалась, что они так ведут себя из-за того, что заразились от нее агорафобией, но Берни заверила меня, что это заболевание не было заразным — ни для людей, ни для животных.
Услышав, как мама зовет нас, я побежала на кухню и крикнула в дверной проход:
— Быстрее, Берни! Она проснулась!
Бернадетт сразу же вернулась в нашу квартиру, и мы вместе направились в мамину комнату. Она лежала под одеялом, протирая глаза.
Увидев нас, мама улыбнулась: