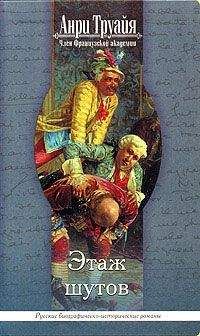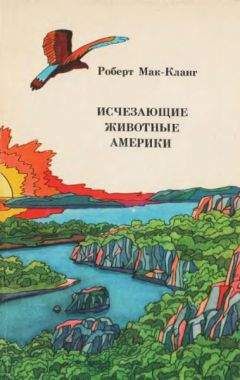— Но вот... остались три тетрадки стихов. Ты ведь коллекционируешь ее творчество?
— Коллекционировала.
На край стола безмолвно легли тетради в обтрепанных обложках: Маша на бессмертие своих произведений не рассчитывала. Потом мама передвинула тетрадки в центр стола, чтоб не упали. И ушла на работу.
На обложках я увидела даты каких-то спортивных соревнований, час консультации по физике... К чему было все это?
В третьей тетрадке стихи были короткие: уже началась война. На предпоследней странице я прочла всего несколько строк:
Невзгоды между ним и мной...
И годы между ним и мной...
В уголке была, как положено, дата: 1941 г.
Хорошо, что мама, которая привезла тетради, не видела этих строк.
Многие продолжали считать маму женой Ивашова... Живут в одной квартире — значит, жена. Не пойдешь ведь с объекта, расположенного, допустим, за пять километров от управления, изучать анкеты в отделе кадров. К тому же война не позволяла сосредоточиваться на таких мелочах
— она была выше склок. Так уверял Ивашов. И я была с ним согласна. Взял помощницей жену?.. И что здесь такого? Лишь бы новые цеха подводились под крышу вовремя. День в день! Выполнять планы досрочно было так же немыслимо, как невозможно пробежать дистанцию быстрее, чем позволяет какой-нибудь самый совершенный человеческий организм. Все участники марафона по выполнению невыполнимого должны были достичь финиша в срок.
«Передайте, пожалуйста, своему супругу...» — иногда говорили маме. И она пропускала эти слова мимо ушей, с преувеличенным вниманием вдаваясь в суть дела: она никогда не была замужем — и опровергать заблуждения ей в данном случае не хотелось.
В первый день, вернувшись с работы, мама сказала:
— У него на столе, под стеклом, портрет Маши Завьяловой.
— Помнит ее! — воскликнула я.
— Он мстит за нее. — Мама вернулась к своей жесткой определенности. -
И себя, к сожалению, не щадит.
Она вслед за ним тоже себя не жалела: часов в семь утра надевала ватник и спецовку, которые полагались на стройке всем, как шинели солдатам. А возвращалась около двенадцати ночи.
— Ивашов прогнал меня домой, — часто повторяла она, точно извиняясь, что бросила его одного где-то на огневом рубеже.
Ивашов месяцами ночевал у себя в кабинете.
— Сон военного времени! — Мама безнадежно махала рукой.
Бригадирам ударных объектов удавалось засыпать лишь стоя, на полуслове... Ивашов не считал себя вправе отличаться от них. Кроме того, ему по ночам, как шепотом сообщала мама, звонили «с самого верха».
Неожиданно он заскакивал домой на часок, чтобы, сидя, вздремнуть и узнать, как дела. «На ревизию!» — говорила мама.
— Все на нем, — жаловалась она. — Кирпич и столовая, бетон и больница, транспорт и ваша школа... Могу перечислять без конца. А ведь кое-чего я и не знаю. — Она приглушала голос. — Или знаю, но унесу с собой на тот свет. Есть военные тайны... Я же, представь себе, засекречена. — Вздрогнув от этого слова, мама вернулась к Ивашову. — За все отвечает!
— А другие? — спросила я.
— Тоже выбиваются из сил, — объяснила она. — Но он, как командующий фронтом... или армией, должен координировать, объединять. Понимаешь?
Необходимо взаимодействие!
— Ему подчиняются?
— Если кто-нибудь говорит: «Будет сделано! Любой ценой! Не считаясь... По законам военного времени...» — он начинает сердиться. Как там, на укреплениях... И объясняет: "Для пас закон военного времени противление злу. Мы не будем призывать зло и жестокость, чтобы с их помощью громить зло и жестокость. Нам их помощь не нужна! Можно считаться с необходимостью, с безысходностью... Но в крайних случаях!
Даже в самых нечеловеческих условиях войны постарайтесь остаться человеком... Прошу вас. А о выполнении приказа завтра мне доложите. Вот таким образом".
— И выполняют?
— Чаще всего. Но за него я боюсь.
— В каком смысле?
— К его сверхъестественным перегрузкам добавляется еще одна обязанность... едва ли не самая трудная на войне!
— О чем ты?
— Как он сам говорит, «в нечеловеческих условиях оставаться человеком»! Такие, как он, не нарушают, а утверждают законы, ради победы которых происходит сражение!
Поскольку речь шла о достоинствах Ивашова, маме трудно было остановиться.
— Почему Машин портрет... там в кабинете, а не здесь? — внезапно для себя самой поинтересовалась я.
— Из-за Ляли, наверно...
Ляля ни на минуту не расставалась с противотанковым рвом, на дне которого Машу настигла взрывная волна. Эта волна захлестнула, накрыла собою все Лялины мысли.
Она передвигалась бесшумно. Мы с мамой не сразу замечали ее. А заметив, что она вошла в комнату, неловко, несогласованно умолкали.
— Ивашов во время оперативных планерок, совещаний выходит в приемную и спрашивает: «Как Ляля?» Я отвечаю ему: «Хорошо». Но он резко возразил мне однажды: «Сейчас никому хорошо быть не может. Это противоестественно! Пусть будет не слишком плохо». И подчеркнул: «Она у меня одна». Это накладывает на нас с тобой, Дусенька, большую ответственность. Понимаешь? Как он выдерживает?
«Подчеркнул... накладывает ответственность... Откуда такие слова?» думала я.
Свое отношение к Ивашову мама должна была скрывать, «ретушировать».
Вот откуда порой появлялись эти обесцвечивающие слова. Они были ее прикрытием.
— Прямо так и сказал про Лялю: одна? А... мы? А строительство? А ты?
— Это совсем другое! Ляля катастрофически выглядит. Как он выдерживает?!.
— Но ведь ты ему помогаешь?
— Кто я такая?! Стремлюсь, конечно, кое-что ретушировать, сглаживать.
Вы сами, говорю строителям, разберитесь, без него. А они отвечают: «Без него невозможно!»
Мне было приятно, что без Ивашова обойтись па стройке нельзя.
— Ты чему улыбаешься? — воскликнула мама, всегда педантично выдержанная. — Что тут веселого? Он ведь фактически... вне семьи. К быту не приспособлен. Забывает обедать!
— Напомни.
— Как? Каким образом?! Гоняться за ним по объектам? Я у телефонов сижу... Как возле орудий. В туалет боюсь выйти. Он говорит: «Ни на секунду не отлучайтесь!»
— Он и там с тобою... на «вы»? Жена — и «вы»... Люди не удивляются?
— Считают, наверное, что это политика: «Работа есть работа!» А другие просто не обращают внимания. Главный механик шепнул, что держать в помощниках жен сейчас правильно: боевые подруги!
Мама, я думаю, не возразила механику.
Ивашов врывался домой всегда неожиданно, на ходу, в коридоре сбрасывая шинель без погон. Каждое его появление было не только желанным, но и тревожным: «Что там случилось?» Подобно тому, как вставало в окне солнце после непроглядной ливневой ночи или как, наоборот, летним днем, начинал маленькими шариками, похожими на нафталинные, падать в траву град... Он не здоровался, а сразу переходил к делу, будто мы расстались с ним час назад.
— Что с Лялей? — спросил он, сбросив в коридоре шинель и убедившись, что я одна.
— Стараюсь уверить ее, что она ни в чем...
— Ложью помочь невозможно, — отрезал он. — Ляля поехала из-за меня.
Как дочь... Это естественно. А Маша потянулась за ней. Как подруга...
Вот и получается!
— Маша не за ней потянулась, — посмела возразить я. — Она бы все равно поехала... и без нее.
— Почему?
Я достала последнюю тетрадку Машиных стихов, вырвала страницу, на которой было всего несколько строк, и протянула ему.
— Что такое?
Он прочитал... Положил листок на стол. Стремительно, не целясь в рукава, нацепил в коридоре шинель. Потом вернулся, сложил листок пополам. И сунул в боковой карман френча.
Навсегда я запомнила вечер, когда мама вернулась домой раньше обычного.
— Ивашов сказал: «Раз уж нас так хотят обвенчать, не будем сопротивляться! Сейчас было бы странно: война, а начальник строительства женится. Отложим до дня победы». Между прочим сказал, проходя через приемную. И уехал на дальний объект.
— Он сделал тебе предложение?!
— Не знаю, — ответила мама. Но на следующее утро надела вместо ватника свое пальто мирного времени с меховым кроличьим воротником. А вместо спецовки платье.
Я поняла, что возместить Ивашову утрату жены своими заботами и вообще собой стало главной целью маминой жизни. Она мечтала о победе, грезила ею, боролась за нее еще одержимей, чем прежде. Но при этом исчезли, растопились в ожидании женского благополучия мамина педантичность, ее стремление к жесткой определенности. Резкость и мужественная готовность к самозащите уступили свои позиции если не мягкости, то уж, во всяком случае, плавности и готовности обратиться за помощью. Конец войны виделся ей началом семейного счастья, которого она никогда не знала.
Плацдарм для борьбы у нее, конечно, был незначителен: приемная с телефонами. Но она старалась вникать в каждый звонок и не просто