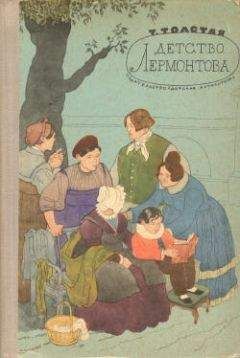Едва сдерживая слезы и рассеянно отвечая на приветствия, Арсеньева прошла к себе в спальную. Дворовые горничные и Олимпиада поспешили помочь ей раздеться, сообщая домашние новости:
— Один попугай в зале подох, из него чучело для столовой сделали… У Акима хата погорела… Волки одолевают, на стадо покушаются…
Арсеньева, довольная тем, что болтовня дворовых выводит ее из тупика отчаяния и бессилия, заставила себя вступить с ними в разговор, но вскоре спохватилась:
— Где же барышня?
Девушки тотчас же доложили, что Мария Михайловна прилегла. Арсеньева, выслушав домашние новости, велела отослать всех прочь и позвать нового управляющего.
Дворовый человек Абрам Филиппович Соколов был куплен Арсеньевой только в этом году. Человек грамотный, он стал вести по доверенности почти все ее дела и очень толково распоряжался.
Он сообщил новости: рожь можно продать, покупатель есть. Греча, говорят, дорожает, но вообще зерно недорого. Морозы до тридцати градусов. Ветра ужасные, всякий день метель. Снегу такое множество, что везде сугробы. Едва расчистили вокруг дома, а по деревне ходить трудно…
Увлекшись хозяйственным разговором, Арсеньева почувствовала, что голодна. Потеряв надежду, что Маша придет к столу, она послала за ней горничную и опять получила ответ, что барышня заснула после дороги.
— А кушала она что-либо?
— Ничего не спрашивала.
Подумав, Арсеньева решила сойти вниз и постучать в дверь дочери.
Машенька лежала, повернувшись к стене, и плакала. Увидев ее, Арсеньева не выдержала и, усевшись на кровать, прильнула к ее плечу и расплакалась сама. Она почувствовала большое облегчение оттого, что дочь разделяет ее тоску в опустевшем доме. Только им двоим, связанным плотью и кровью с Михаилом Васильевичем, было понятно, как они его любили!
Так рассуждала Арсеньева, но неожиданно Маша перестала плакать и кротко позвала:
— Пойдемте, маменька, покушаем.
Обед подали поздно, при свечах. Арсеньева любовалась дочерью.
Впрочем, многие заглядывались на Машеньку — редко встретишь такую нежную и добрую улыбку, такую непринужденность и спокойствие медленных движений.
Она была черноволоса, смугла. Привлекал взоры рот крупный, выпуклый, глаза огромные и взгляд их не по-девичьи тяжелый.
Чудесно зимой в Тарханах. В огромном, с любовью обставленном доме светло и уютно. Но Арсеньева все время вспоминала: эту вещь выбирал Михаил Васильевич, эту книгу он читал…
После столичных забав и услад милого севера мать и дочь заскучали в Тарханах.
Нехотя и лениво обедали они вдвоем в маленькой столовой, где Арсеньевы трапезовали без гостей. Квадратная комната с террасой, выходящей в сад, была оклеена темными обоями. Между канделябрами на стенах висели оленьи рога, большие фарфоровые блюда, картины в золотых рамах. На трехстворчатом буфете красовались чучела птиц, некогда застреленных Михаилом Васильевичем на охоте; чернела даже медвежья голова, оправленная сукном. К этой коллекции прибавилось теперь чучело зеленого попугая.
Вскоре после их приезда, когда они сидели за едой, вошел слуга. Он неторопливо и с достоинством подал записку на серебряном подносе.
Арсеньева сломала сургучную печать. Посмотрев на подпись, она внезапно изменилась в лице, а Маша встрепенулась и впилась взглядом в записку.
Мать читала рассеянно, гневно хмурясь, а Машенька, не выдержав, спросила:
— Не мне ли письмо?
Арсеньева промолчала. Дочь переспросила:
— От кого?
— Как ты любопытна, девочка! — силясь сдержаться, сказала Арсеньева. — Кто много знает, тот скоро состарится!
Поглядев на лицо дочери, она заметила, что шутки не ко времени: Маша побледнела, и огромные глаза ее тяжело и выжидательно глядели на мать.
Арсеньева, чувствуя, что не смеет дольше волновать дочь, ответила небрежно:
— Да от Анны Васильевны.
— От какой Анны Васильевны?
Арсеньева хотела убедить Машеньку, будто письмо от соседки, но девушка допрашивала:
— От Лермантовой?
Арсеньева, сложив письмо, поторопилась ответить:
— Да.
Лицо Маши залилось румянцем, и даже маленькие уши ее раскраснелись.
— Что же она пишет?
Арсеньева подумала, что дочь ее потеряет власть над собой, если она вновь рассердит ее, и отдала записку, в которой говорилось, что Анна Васильевна с дочерьми и сыном просят достопочтенную соседку Елизавету Алексеевну с дочерью, любезной и прелестной Марией Михайловной, посетить их в Кропотове ввиду именин Анны Васильевны 2 февраля.
Машенька порывисто осведомилась:
— Человек ждет ответа? Его накормили?
Она взяла поставленную перед ней тарелку с едой и передала ее старому слуге с просьбой:
— Отдайте ему покушать. Пусть подождет.
Арсеньева побагровела.
В первый раз ее не послушалась любимая, единственная дочь!
Арсеньева резким движением поднялась со стула и ушла в спальную. Машенька осталась за столом и машинально передвигала по паркету снятую с ноги туфлю, а слуга в недоумении держал переданную ему тарелку. Не зная, кого ему слушаться, он вышел из комнаты и поплелся за Арсеньевой.
Заметив слугу с тарелкой в руках, Арсеньева обернулась и сурово приказала:
— Нечего мне глаза мозолить, ступай к управляющему! Пусть он сошлет тебя куда-нибудь подальше, с глаз долой. Михайла Васильевича пережил и надеешься в моем доме остаться? Напрасно мнишь!
Слуга изменился в лице и грустно попросил:
— Матушка-милостивица, уж ежели на меня гневаетесь, то велите сослать меня вместе с моей старухой! Мы с ней серебряную свадьбу справили, восемь сынов вырастили…
— Твоя жена нужна на скотном дворе. Что ж это, по твоей милости я должна скот без призору оставить? А сыновей в рекруты пора сдавать!
И с каменным лицом Арсеньева вошла в дверь, шелестя шелковыми юбками.
Тем временем Маша, подумав, вскочила со стула и торопливо поднялась по лестнице к матери. Но сразу она не посмела войти, задержалась в гостиной, взглянула на себя в зеркало и увидела в нем высокую, худенькую девушку с руками, крепко сжатыми от волнения.
Маша с детства боялась матери, ее грубого, сурового голоса, ее бесповоротных решений. Она принимала ее любовь и заботы, но постоянно чувствовала над собой ее повелевающую руку. Ах, как страшно говорить с ней, когда она противится! Легче спрыгнуть с балкона, даже с колокольни, легче умереть…
Жалея себя, Маша залилась слезами, но сжала губы и вошла в комнату матери, стараясь казаться спокойной.
Арсеньева сидела в кресле, прикрыв глаза пальцами. Она была в отчаянии, что дочь стала взрослой и перестала ее слушаться, чувствовала, что девушке наступило время жить и действовать, а ей, вдове, стареющей женщине, пора изменить свое положение в доме: надо смириться и с положения первостепенного отойти в тень.
Эти мысли раздражали Арсеньеву. Желая доказать, что она хозяйка, что ее голос имеет в доме большее значение, чем желание дочери, она, увидев входящую Машу, заговорила жестко и самолюбиво:
— Не позволю! Так и знай, не позволю. А пожелаешь венчаться тайно — прокляну и лишу наследства.
Маша слабо ахнула и села на диван, прикрыв лицо руками.
Арсеньева говорила громким басом, по ее мнению, доказательно: нельзя выходить за Лермантова, потому что мужчине даже неудобно быть таким красивым. С помощью молодой жены он, по-видимому, желает вновь выбиться в люди. Ведь ему пришлось неожиданно выйти в отставку и уехать в деревню. Соседи перешептываются, что Юрий Петрович игрок, мот, пьяница, вертопрах…
Маша, отняв руки от холодного, в испарине лица, сказала отчаянным голосом:
— Я прошу вас, маменька, вспомнить, что прошло только два года с тех пор, как папенька покончил земные счеты!.. Прощайте! Мне остается одно: последовать его примеру. А вы сидите себе на ваших деньгах, владейте имением и радуйтесь, что своим характером вы уморили свою дочь.
Сказав так, девушка повернулась и хотела выйти из комнаты. Уловив в голосе дочери угрозу, Арсеньева побледнела. Представив себе, что Машенька покончит с собой, Арсеньева испугалась.
— Маша! — крикнула она, пытаясь встать с кресла и чувствуя, что ноги ее не слушаются. — Маша, вернись! Я на все согласна.
Дочь обернулась, увидела искаженное испугом лицо матери и поняла, что она сдалась. Тогда Маша подошла к ней и приласкалась.
Немного успокоившись, Арсеньева заговорила:
— Я не желаю этого брака, но ты настаиваешь, так выходи за него, но помни: если ты будешь несчастлива, то пеняй на себя!
— Я вас очень прошу написать записочку, что мы поедем в Кропотово.
— Давай листок… А не лучше ли их позвать к нам? Нет? Ну, как желаешь. Только помни, Маша, ты на меня не пеняй! Я не желаю этого брака, но ты берешь на себя решение, а мне остается одно: содействовать тебе в твоей затее и охранять тебя, сколько сил моих хватит.