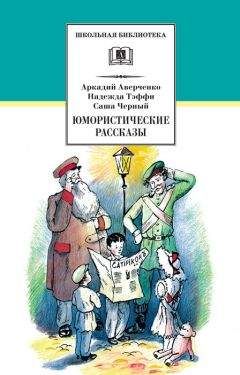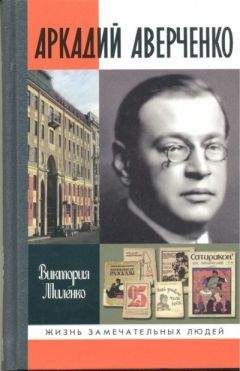– Шестой и седьмой класс! На помощь! Девчонки меня му-ча-ют!!!
Да разве их перекричишь… Такой смех поднялся, такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл… Так бы я, быть может, и погиб…
Но, на мое счастье, вижу издали, словно облако, седая дама плывет – в серой шубке, на голове серебристая парчовая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали. Расступились, шубки оправили… От реверансов снег задымился…
А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень.
Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает:
– Вы как сюда, дружок, попали?
Представьте себе – тишина кругом, словно на Северном полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду, а я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я в сад свалился. Будто я и не приготовишка, а «капитанская дочка», и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят, что и сказать невозможно… Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороченную голову и опять спрашивает:
– Как вас зовут?
Ну это я кое-как, слава Богу, вспомнил. Но от робости ни с того ни с сего шепелявить стал:
– Шаша.
Опять вокруг ехидные девочки захихикали. Не громко, конечно, но все равно же обидно.
Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо (слух у приготовишки острый!) шипение слышу:
– Шашечка! Промокашечка… Таракашечка…
А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую гимназию принес.
– Как же вы, Саша, все-таки в сад к нам попали?
И вдруг над стенкой шестиклассная голова в фуражке появляется и басит:
– Извините, пожалуйста, Анна Ивановна! Мяч у нас через стенку перелетел. Мы гимназистика этого в сад и перебросили.
Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила:
– Стыдитесь! Большие – маленького подвели. Да и где он тут, в снегах-сугробах, мяч ваш найдет?
– Да он сам вызвался.
– Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели. Слышите?
И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.
– Вам тоже стыдно, медам! Разве так можно? Точно зайца на охоте обступили… Слава Богу, не все же здесь маленькие… Могли бы и умней поступить.
Тут уж девчонкина очередь пришла: покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожала.
Довела меня седая дама до калитки. Руку на плечо положила. Сразу мне легче стало…
Расшаркаться я даже не догадался, побежал к парадным дверям, да и время было – колокольчик во всю глотку заливался… Кончилась, значит, большая перемена, – кончились и мои мучения…
На елку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня няня, я не пошел.
– Почему?
– Не пойду.
– Да почему же?
– Не пойду, не пойду!
Няня только головой покачала:
– Фу, козел упрямый… Уж попомни мои слова: сошлют тебя когда-нибудь в Симбирск.
Няня наша в географии плохо разбиралась, и что Сибирь, что Симбирск – для нее было все едино.
Так я дома и остался.
А поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила. И сказала таинственно:
– Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козявка, не пришел, и прислали тебе с елки подарки.
А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул.
Жизнь в усадьбе текла мирно и уютно. Событий почти никаких. Тетя Олимпиада, папина сестра, прислала письмо, что визу она получила и на днях приедет. Садовник первые груши принес с распяленного вдоль огородной стены в виде лиры дерева. Груши как груши…
Что еще было? Французский теленок на прошлой неделе балетные упражнения у пруда проделывал и с разгону в пруд слетел, подвели под него подпругу, к пристани подтянули, кое-как вытащили. Игорь помогал – «Дубинушку» пел. Еще живой угорь с кухонного стола на пол соскользнул незаметно и в траву уполз. Кухарка французская с полчаса по-французски ворчала. Но ведь это все не события: о таких вещах в газетах даже бисерным шрифтом не печатают…
Но вот на днях утром Бог послал радость. Пришел кузнец, живший у шоссе в кособоком домишке, и привел не собаку какую-нибудь шелудивую, страдающую глистами, не старого драчуна козла, от которого не знаешь как отделаться, а настоящего живого осла, молодого и пресимпатичного.
Кузнец объяснил привратнику, что ослик – движимое имущество его любимой сестры, которая торгует в Париже на рынке прованским маслом. Теперь любимая сестра укатила к другой любимой сестре в Нормандию, а ослика с попутным грузовиком прислала на дачу к кузнецу. Вот он и надумал: не в кузнице же осла держать, там и без того тесно, железо из всех углов торчит; у шоссе осла, животное любопытное, тоже держать не приходится, того и гляди, под автомобиль попадет… Пусть поживет в соседней усадьбе – парк большой и лужок не малый. А уж за это кузнец у порога привратникова дома новую скребку приладит, чтобы в осенние дни гости грязь в столовую не заносили. И фонарь перед входом обещал починить бесплатно.
Так и завелся в усадьбе новый длинноухий квартирант. Игорь с ним, конечно, подружился, водой не разольешь. Мальчик в парк – осел в парк. Мальчик к пруду – и осел за ним, как щенок домашний. Даже смешно: курточку в зубы захватит, чтобы Игорь не удрал, и плетется за ним. Понравились друг другу чрезвычайно, но, между прочим, и закуски у мальчика очень уж были вкусные: то даст ватрушку с творогом, то по-братски разделит булку с земляничным желе. Клещей из ослиной спины не раз вытаскивал, газетой слепней отгонял, зонтик в дождик над ослом раскрывал. Очень услужливый мальчик. Зато ослик, хотя очень он был гордый и своенравный, позволял Игорю (а этого он даже и местному мэру бы не позволил) садиться изредка на себя верхом. Провезет шагов тридцать и через голову сбросит: пора и честь знать.
Пуделю Цезарю дружба эта не понравилась. Раньше мальчик с ним дружил, по всему парку гоняли, а теперь изменил, ходит по целым дням с этим лошадиным выродком и все ласковые слова, которые раньше говорил собаке: «Пузик, симпатунчик, лягушечка, милашка моя канареечная», – все слова говорит теперь ослу… Сердился пудель, скалил зубы, пытался было сзади куснуть нового «симпатунчика» за ляжку, но тот чуть ему челюсть не свернул набок. Здорово лягается! Пришлось взять себя в руки и примириться. Хорошо еще, что осел мясного не ел: ни котлеток, ни куриной печенки, ни пирожков с мясом. Кое-что из этих вещей по-старому перепадало собаке.
А потом пудель подумал и поборол свою ревность. Мальчик уж сам знает, с кем дружить. Если с ослом нянчится, значит, осел того стоит. Подошел как-то под вечер к ослиной морде, всмотрелся: симпатичные, темные зрачки, уши на пружинках вверх вскинуты – по-собачьи, из губ теплое, густое дыхание. Ослик наклонил морду к собаке, дохнул на нее… Собака вежливо лизнула осла в нижнюю губу. Мир!
Стали они с этих пор гулять втроем. Заберутся в парк, в самую глушь, к гроту с повалившейся березой, и разлягутся на траве. Игорь сливами рот набивает, ослик пузом кверху по прошлогодним листьям валяется, небо лягает, а пес надрывается – лает: «Гав – перестань! Гав – перестань! У меня из-за тебя, гав-гав-гав, истерика сделается!..» А потом все вдруг вскочат и побегут напролом сквозь ежевику и бурьян куда глаза глядят.
Только по треску сучьев да по взлетающим в испуге над головой воронам слышно, куда вся компания поворачивает: к старой мельнице, к неподвижному шлюзу, к лужку за прудом. Уж там вволю погарцевать можно!
На заросшей конским щавелем старой теннисной площадке большое оживление. Игнатий Савельич приволок бревно, затесал конец, поплевал в ладони и вырыл ямку: гигантские шаги мастерить собрался. Мама Игоря эту затею скрепя сердце разрешила, только столб просила внизу мешком с сеном обвязать, чтоб Игорь с приятелями лбами о столб не стукались.
Кипит работа. Утрамбовал матрос землю у столба, щебнем укрепил. На верхнем конце приладил смазанную салом железную вертушку с лапками, француз-кузнец сработал ее по матросскому рисунку. Чего эти русские только не повыдумывают!
Вокруг столба, как на даровом представлении, расселись Игорь, Цезарь, толстый племянник привратника, тощий сынишка соседа-огородника и тихая, ясноглазая Люси, дочка кузнеца. Раскрыли рты и страдают: когда же будет готово? Ослик тут же, кругом бродит, столб понюхал и голову кверху вскинул. Карусель, что ли? В Париже он их немало на ярмарках видал.
Петли вроде хомутов вышли, хоть куда. Матрос их кожей обшил, старый негодный кожух в сарае от допотопной брички нашелся, привратник пожертвовал: режь! Закачались четыре легких веревочных конца. Занес матрос в хомут ногу, натянул веревку, по земле гоголем пробежал – ничего, столб держит… Даром что матрос весом с мельничный жернов был.