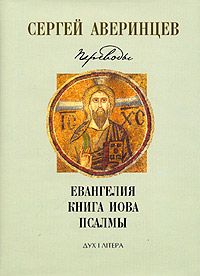Ознакомительная версия.
Юра идёт молча, видно думает о чём-то. Я шагаю рядом и тоже молчу — зачем лишние слова говорить? В последнее время я и так очень болтливый стал, как девчонка. Сейчас приедем, и всё сразу станет ясно, что же за человек такой — старший Юрин брат.
Едем мы долго. Автобус пустой, старенький, пыхтит, поскрипывает. Под сиденьем — печка. Кто их придумал? Пока едешь, так нагреваешься — сам не рад, что уселся. Я встаю у окна, придерживаясь за поручень… За окном — город, обычный осенний город, невысокие дома, деревьев на тротуаре мало, мамы с колясками гуляют, несколько мальчишек с большими рюкзаками за спиной, кто-то с собакой идёт, кто-то по делам спешит. Юра здесь вырос. А для меня он чужой пока, этот город, хоть и излазил я его летом вдоль и поперёк.
… — Конечная!
Неужели приехали?
Выходим, район незнакомый, домов мало, все одноэтажные. Дальше — дорога, широкая, по обочинам — лужи. Березки растут, где-то лает собака. Небо над нами совсем синее, солнце садится, близятся сумерки. Прохладно — прячу руки в карманы.
— Замёрз? — спрашивает меня Юра.
Я мотаю головой.
— Лучше скажи, когда мы придём!
— Скоро.
Впереди — высокий забор, ворота. Цветы продают, букеты, и… венки. За воротами много крестиков и прямые плиты, и много, много памятников. Кладбище.
Зачем мы сюда пришли?! Он что, обманул меня, что скоро придём?!
Юра покупает цветы, потом мы проходим по тропинке мимо памятников и фотографий. Царит какая-то неземная, непонятная, могучая тишина.
… Когда мы обошли памятники и вышли к полю, за которым среди белых стволов березок тоже виднелись крестики, Юра остановился и тихо выдохнул:
— Пришли.
Я посмотрел за ограду и ахнул.
С невысокого деревянного креста смотрел на меня такой же мальчишка, как на фотографии. А рядом — бородатый мужчина с удивительно добрыми, внимательными глазами. Юра перекрестился и положил цветы.
А я всё смотрел на него и не мог понять — лицо у него такое было… Печальное и в тоже время светлое какое-то. Он наклонил голову, будто думал о чём-то, и мне казалось, что он плакал, но глаза у него были сухие. Он молчал, а я стал читать надписи на памятнике:
«Данилов Олег Алексеевич, 1988 — 2002 г.»… «Данилов Алексей Викторович, 1958 — 2002 г.»
Получается, что мальчишке было четырнадцать лет… Но одна и та же дата…
— Юра, как они погибли?
— Как и большинство заложников, в Норд-Осте.
Он посмотрел на меня и понял, что я ничего не понял и не успокоюсь, пока не узнаю.
— Меня отец наказал, и с собой не стал брать. Было за что, а я обиделся. Он ведь редко брал нас с собой на прогулки, а когда на выходных оказывался дома — это был праздник. Он был хирургом, работал в Москве… А однажды решил нас порадовать — взял билеты на новую постановку. С ним поехал только Олежка. А во время представления театр захватили террористы… Норд-Ост — это так называлась постановка в театре на Дубровке, в Москве… Мы тогда как узнали, не хотели верить… Не верили.
Я молчал. Что я мог сказать? Когда вот так провожаешь человека, сам не зная того, что навсегда. Меня отец отвёл в детский сад, а вечером обещал сходить в кафе поесть мороженого… Мне было тогда года три или четыре — не знаю, но этот день — один из многих — запомнил, я ждал его весь день, весь вечер!.. А он не пришёл. Но что я, когда у меня папа был всего четыре года, а у Юры — брат и отец, с которыми он прожил… да половину жизни!
Брат — это ведь как самый лучший друг. Друг, которого ты любил.
И отец, которого ждал. Папка… Папа…
… Юра тронул меня за руку:
— Миша, да ты замёрз совсем! Идём…
Я помотал головой и не двинулся с места:
— Юра, а у меня тоже родители погибли.
— Знаю…
— Я тоже ездил на кладбище, хотел их разыскать… Пока меня не перевели в другой детский дом, в этот город. Это в прошлом году было.
Он чуть прижал моё плечо к себе, а я заплакал.
Глава 7.
Небо для всех одно.
— О чём ты думаешь, когда приходишь на могилу к брату и папе?
— Ни о чём. Я за них молюсь…
Чего? Я посмотрел на Юру. Мне было и стыдно, и неловко за мои слёзы, но он ничего мне не сказал, он просто был рядом и плакал со мной. А потом мы пошли обратно — мимо тех же холмиков, цветов и памятников. Смеркалось, всё вокруг было синим и зябким.
— Чего ты делаешь?
— Молюсь. Разве ты никогда не молился за родителей?
— Не-а… А как?.. Ой, постой… Этому в храме как-то учат?
Юра слабо улыбнулся.
— Миш… Ты скажешь тоже — учат, будто в школе.
Я заморгал.
— А как? И, главное, зачем?
— Ну вот смотри… Давай я тебе про себя расскажу.
— Давай! Ты вообще про себя никогда не рассказываешь!
Юра вздохнул, и неторопливо стал рассказывать.
— Когда Олега с отцом не стало, мне было чуть больше чем тебе — двенадцать лет. Знаешь, я был мальчишкой и о смерти не задумывался. Не интересно было, что ли… Мы разные строили гипотезы со своими ребятами — товарищами по играм, да были и те, кто искренне верили, что к тому времени, пока мы вырастем, придумают лекарство для бессмертия… А тут, говори — не говори, придумывай, не придумывай — они погибли. Вот сейчас. И никак их не вернёшь, и не будет их больше рядом… И ведь меня тоже рано или поздно — не будет. Я тогда, когда это понял — стало страшно… Но страшнее было за них — неужели они навсегда исчезли, и я не увижусь с ними никогда? Никогда.
Знаешь, Миш, мне тогда так тоскливо было… Дома — мама плачет, да что там… Какая тут школа? Какие уроки? Зачем?
Одно было только, что меня утешало — друг Динька, он каждый день чуть ли не силой тащил меня в эту школу, потом гулять по городу… Я молчал, а он тогда мне что-то рассказывал… Не надолго отвлекало. А потом мы с мамой пошли в храм. Первую службу, когда была панихида, я не помню почти, а во второй раз мы пришли туда через неделю, утром в воскресение. И тут произошло такое…
— Чудо?
Юра кивнул.
— Можно назвать это чудом. Потому что, вот представь себе: темнота, осень, сырость, туман, и вдруг ты открываешь большую дверь и оказываешься на празднике. Вокруг — всё сияет, поют…. Я никогда не слышал такого пения, и в те минуты — забыл про себя, про своё горе. Просто стал смотреть и слушать, и мне казалось, будто папа мой рядом, и брат… Народу было много, и я поднялся по лестнице, и сверху мне всё хорошо было видно… А потом батюшка вынес Чашу, он её держал очень бережно, и говорил удивительные слова — про Тело и Кровь, что это — Тело и Кровь Господа. И люди стали подходить к ней, а я стоял и удивлялся — как?! Там Тело и Кровь Самого Бога? И они Их едят?
Я тогда не думал — есть Бог или нет, если раньше я и задумывался над этим, или с Олежкой мы рассуждали — пришли к выводу, что есть. А иначе — как появился этот мир? Кто-то ведь его создал? Всё так непросто устроено, красиво, продумано. Гармонично. Да и папа нам говорил, что есть Бог. И матери говорил, и про случаи разные рассказывал на операциях, а мы слушали…
«Что это было?» — спросил я батюшку, когда он оказался рядом с моей мамой. «Ты про что?» — «Про всё. И про Тело и Кровь, и про пение, — что это? Праздник?» — «А… Это, сынок, литургия, служба такая. И святое Причастие… Праздник, да…» — «А мне — можно? Тоже вот так, как они?» — я оглянулся на алтарь, на тех людей, которые выходили из храма. «Причащаться?… Можно, отчего же нет. Только…»… Ох, Мишка, смотри, наш автобус подъехал. Побежали, может, успеем!
— Не надо! Юр, мы… мы другой подождём.
Мне хотелось узнать, что было дальше. Мне хотелось, чтоб он говорил, говорил, чтоб мне хоть немножко забыть об этих слезах и неловкости, которая была между нами.
— Ладно… Так ты замёрз уже, наверное?
Я отчаянно замотал головой.
— «Только…»
— Ну, слушай… «Только говорит, в следующее воскресение, с утра ничего не ешь и не пей, и подойдёшь ко мне на исповедь…»
Юра перевёл дух. А я только сейчас увидел, что он запыхался.
— Что такое исповедь?
— Сейчас… «Что такое исповедь, зачем?» — «Это сынок, грехи, которые ты наделал, поступки, которыми ты расстроил Бога. Ты что ж, никогда не исповедовался?» — и батюшка посмотрел на маму, а она грустно покачала головой. «Как тебя зовут?» — спрашивает. — «Юра» — «Юрий… Ну вот, Юра, бывает, было же у тебя такое, что ты сделал что-то, и плохо тебе от этого, маешься, не знаешь, куда себя деть, как простить, совесть мучает… Было?» А я… Он внимательно на меня смотрел, а я не смог ничего сказать, кивнул. «Так вот, если пожалел об этом поступке, раскаялся — идёшь на исповедь, и перед Богом каешься, прощения у Него просишь за поступок этот — за грех. А перед священником исповедуешься»… И тут меня осенило: «А сейчас… можно?» — «Если очень надо, то можно…»
Понимаешь, Миш, тяжело мне было ещё оттого, что папа уехал расстроенный, а я обижался на него. Не помирились мы с ним перед его гибелью. И я был виноват. И висит этот камешек, и покоя не даёт… Вроде раскаялся, а толку? Ведь больше ничего не сделаешь.
Оказалось, что можно. Батюшка мне тогда сказал, что во время исповеди Бог каждый раз человека прощает, если он от всего сердца кается, и жизнь можно сначала начинать. С чистого листа. «Только ведь отца-то уже нет… — возразил я, — что мне теперь делать?!» — «Да с чего ты взял, что его нет?! У Бога все живы!» — «Как…»
Ознакомительная версия.