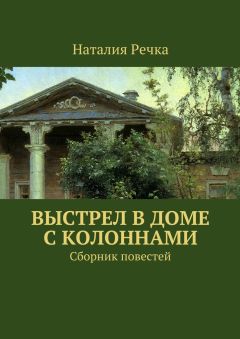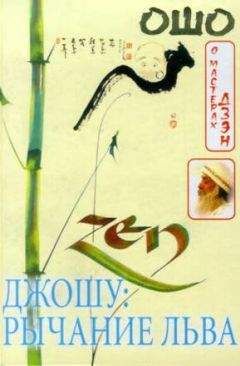У Лены захватило дух. Откуда-то перед глазами выплыла засыпанная блестками елка, запах горящих свечей, мамин голос… Так было, было! Она потянулась к балерине, золотой звездочке, домику с ватным дымом…
— Надо выбирать, — сказала сзади Ангелина Ивановна. — И играть. Недолго.
Старик проскрипел гордо:
— Мы сами клеим! Бумага вот золотая кончилась, нигде не достать.
Лена вздохнула всей грудью, взяла балерину и большой сверкающий шар. Он лежал отдельно, весь в вате, как царь, и в боку у него краснела вмятинка.
Этот трогать не надо, — строго сказала Ангелина Ивановна. — Этот дорогой, со старый елка.
Бац! Шар скользнул из стиснутых Лениных пальцев и брызнул во все стороны.
— Я сказал… — Ангелина Ивановна задохнулась. — Иди на кухня, ты неаккуратный девочка!
— Ах, ах, какой убыток!.. — залепетал старик.
Дальше Лена уже не слышала, ее выставили за дверь.
Все это было похоже на страшный интересный сон. Однако Ангелина Ивановна, выгнав Лену, в комнату ее не отпустила, а заставила мыть банки-склянки из-под патоки. Лена мыла с удовольствием. Вода была теплая, в одной банке патоки насохло столько, что Лена поковыряла, вытащила и съела. А самое главное — у нее за пазухой тихо грелась маленькая картонная балерина, которую девочка потихоньку спрятала, когда ее выгоняли. Не надо будет больше играть в этих противных, похожих на Ангелину Ивановну усачей!
— Подай мне дуршлаг! — сказала вдруг та.
Лена понятия не имела, что это такое. Но тут в прихожей звякнул звонок. Хлопнула дверь. Наверное, пришла нянечка…
Начиная с этого дня, Лена свободно ходила по дому и побывала в комнате за кухней не раз. Там она узнала об Ангелине Ивановне с мужем многое: что они жили раньше «в столица», а когда «эти большевики сломали жизнь», прибежали сюда. Что Иаган Иаганыч — царский генерал, только в какой-то «отставка», а их сын воюет на гражданке с красными и что красные подходят все ближе, «такой беда, такой беда…»
Однажды, когда Ангелина Ивановна ушла на базар торговать патокой и елочными игрушками (оказывается, их делали тоже на продажу, приближалось рождество), Лена зашла к Иагану Иаганычу. Он сидел жалкий, сгорбленный и тихо клеил спичечные коробки для будущих домиков. Лена стала у него за спиной, спросила:
— Будет окно?
— Да, конечно. И дверь.
— А елки у вас не будет?
— Нет, зачем? Дай-ка мне клей!
Она подала. Вдруг спросила:
— А вы на войне тоже воевали?
— Еще бы! Я был… Впрочем, зачем тревожить?
— Больше уже не пойдете воевать? А если красные придут?
Он повернулся, кутаясь в халат, шепнул:
— Нет, с меня довольно. Нет, нет!
Вошла Ангелина Ивановна. Большая, шумная, долго отфыркивалась, раскладывая на столе кулечки с пшеном, обрезки баранины, чернослив…
— Фунт баранина — два носовых платка, голландское полотно с вензель и мережка. Люди готова съесть друг друга. Это белый булка? Это пфуй!
Лена исподлобья поглядывала на разложенные богатства; а Иаган Иаганыч протянул сморщенную, как куриная лапка, руку и цепко схватил горсть черносливин. И тогда произошло то, о чем Лена вспоминала потом с дрожью и отвращением. Ангелина Ивановна развернулась и — трах! — закатила ему пощечину.
Одна черносливина попала в Лену, другие покатились на пол. Иаган Иаганыч осел и захлебнулся. Лена, сжав кулачки, закричала пронзительно:
— Вы… ты… злая! У-у, злая! Баба-яга, баба-яга!..
— Пфуй, девочка, тише! Затыкать тебе рот?
И Ангелина Ивановна двинулась, но не на Лену, а на скорчившегося Иаган Иаганыча.
— Ты брал? Ты брал? Я мерз, торговал… Все доставают продукты, разный ерунда, офицеришка, а ты? Генерал, хозяин…
Дальше Лена не стала слушать. Она выбежала из этой ужасной комнаты, изо всех сил хлопнув дверью. В кухне в раскрытой дверце плиты теплились догорая, угли, коричневая патока в тазу стыла под сморщенной пенкой. На столе стоял кувшин со вчерашним супом. Все еще слыша отвратительный голос Ангелины Ивановны и звонкий удар пощечины, Лена схватила кувшин и опрокинула его в таз с патокой. Несколько капель, зашипев, исчезли с плиты.
Лена вбежала в свою комнату, сдернула со стены пальтишко, обмоталась нянечкиным платком, выскочила в прихожую. И вот она была уже во дворе, на улице, а незапертая дверь поскрипывала под ударами зимнего ветра, напуская холоду в дом Ангелины Ивановны. Куда надо идти, Лена не знала. Все равно они с нянечкой больше никогда не вернутся сюда! Нянечка в госпитале, значит, надо туда… Лена спросила встретившуюся старушку:
— Пожалуйста, в госпиталь. В госпиталь мне!
— Чегой-то? — не поняла старушка.
— Куда идти в госпиталь?
— А-а, в больницу тебе? Ступай, маточка, к вокзалу, казармы увидишь… Маленькая, а одна идешь. Ты чья будешь-то?
Но Лена была уже далеко. Она ни капельки не боялась ни города, ни прохожих. Как она разыскала госпиталь, обогнув вокзал и знакомую уже водокачку, Лена не помнила. За госпиталем тянулись унылые бараки — казармы…
Лена проскочила большую дверь, остановилась под лестницей. Сильно пахло карболкой, лекарствами, по площадке пробегали сердитые офицеры, ковыляли страшные безглазые бородачи, тащили окровавленные носилки… Схватившийся за перила бледный солдат с обвязанной головой спросил:
— Кого потеряла, дочка?
— Мне… нянечку!
Он крикнул кому-то, морщась:
— Покличьте там тетю Феню, что-ли…
С лестницы спустилась пожилая худенькая женщина в сером фартуке. Лена обомлела… Но в это время на площадке показалась сама Кузьминишна. Она почти несла привалившегося к ней сморщенного, вроде Иаган Иаганыча, старикашку. Увидев внизу под лестницей Лену, не то крикнула, не то прошептала:
— Милые мои, никак, Лена?
А той уже все равно было, что кругом чужие, спешившие куда-то и стонущие люди. Она бросилась к Кузьминишне, прижалась к ней…
Кузьминишна отвела ее в каморку под лестницей, где на спиртовке кипятились инструменты, а женщина в сером фартуке возилась над корзиной с бинтами.
— Ну и пусть сидит, — спокойно сказала та. — Ты ей только в этажи не вели выходить, тиф схватит.
— Был у ей тиф-то, был! — горестно отвечала Кузьминишна.
Каморка под лестницей была, наверное, самым тихим местом в госпитале. «В этажах» кричали, шумели и стучали над головой, как заводные, все время бегали и грохали чем-то. Кузьминишну тут же вызвали, а женщина в фартуке молча свивала и развивала бесконечные бинты и только иногда спокойно улыбалась Лене.
Когда же потемнело окно на лестнице, а каморка стала еще меньше, грязнее, в госпитале началось такое, что Лена окончательно забыла и про Ангелину Ивановну, и про ее решетчатую, с патокой и елочными игрушками, тюрьму.
* * *
В двери стоял мальчишка. Он задыхался. На светлых бровях, ресницах и щеках блестел пот или дождь.
— Где она? — звонко спросил мальчишка вставшую от неожиданности Лену.
— Кто?
— Федосья Андревна. Тетя Феня!
— В этаж позвали.
— Тьфу! — Он ударил по скамейке со спиртовкой облезлым малахаем. — Бежи позови, меня не пустят.
— А тоже не пустят?
— Там у водокачки по казармам палят. С броневика! Вы что, пооглохли?
Лена прислушалась. Она уже хорошо знала страшное слово «палят»! Нет, в госпитале было тихо…
Но вот зазвенело разбитое окно, прокричал чей-то высокий голос… И за топотом ног над головой послышался далекий, вовсе не похожий на стрельбу гул: глухой треск, эхо, опять гул…
В каморку ввалилась бледная, растрепанная докторша. Упала на скамейку, застонав:
— Красные прорвались… Конец!..
И тотчас по лестнице затопотали часто-часто, будто картошку посыпали. Докторша вскочила, дунула зачем-то на спиртовку, выбежала из каморки…
— Тикают! — подмигнул мальчишка Лене.
— А с какого… броневика?
— Бронепоезд прорвался. С Ростова.
— На нем кто?
— Кто? Наши!..
— Наши?
Мальчишка подошел к ней вплотную.
— Ты что, маленькая? Наши, красные! — прибавил весело и уверенно: — Ты не боись. Они госпиталь не тронут. По казармам с войсками палят. Ох, там и страху!.. Тетя Фень!.. — рванулся он к входившей женщине в фартуке.
Та точно ростом выше стала. Скинула фартук, набросила платок, кивнула мальчишке:
— Пошли, пошли!
Он оглянулся на Лену, и они выбежали, а в каморку вполз на карачках тот сморщенный, с перекошенным лицом старикашка, которого нянечка тащила на лестнице. За ним сразу стал набиваться народ. Лену зажали у стены. Изо всех сил работая локтями, распихивая пахнущие лекарством одеяла, шинели, она выбралась к лестнице. Нянечки и тут не было. Мальчишка с тетей Феней мелькнули у входной двери. Куда же они? Там же палят, на улице!
Госпиталь стал похож на огромный развороченный муравейник. С этажей бежали, ползли в подвал, спускали носилки с чем-то колышущимся, покрытым простыней. А гул все нарастал, его перебивали удары…