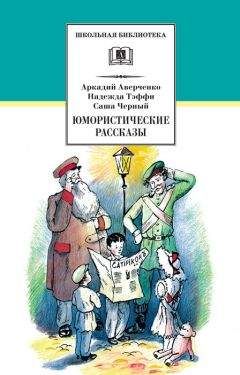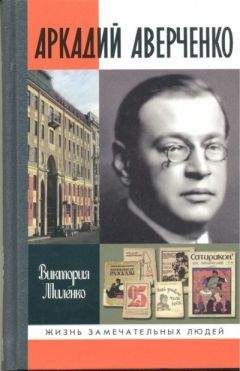Заварила барынина мамаша кашу – ложка колом встанет. Куды командир, туды и она, самотеком. Новоселье ли у кого, орденок ли вспрыскивают – все ей неймется. Не с тем, мол, приехала, чтобы пальцы на ногах пересчитывать. Мантильку свою черного стекляруса вскинет да так летучей мышью рядом и перепархивает, с мостков на мостки. Резвость двужильную обнаружила, – злость кость движет, подол помелом развевает.
Сдаст ее командир в гостях хозяевам на руки, сам в дальнюю комнатку продерется – по графинам пройтись, в банчок перекинуться либо дамочку встречную легким словом зарумянить – ан старушка контрольная тут как тут. Карты из рук валятся, водка мимо рта льется. Шершавость у ней в глазах такая была непереносная. Прямо как скаженный он стал. А не брать нельзя, в чулан мамашу не спрячешь. Жалованье командирское известное: на табак да на щи. Способия она ему из пензенского имения выслала – то мундир обновить, то должок заплатить, то копченого-соленого с полвагона. Оттянешь ее за хвост – банку мухоморов пришлет, прощай, зятек, постучи о пенек…
И денщику тошно. Известно, барину туго – слуга в затылке скребет. Принесешь – криво, унесешь – косо. Хоть на карачках ходи. Да и Кушка-пес одолевать стал. Мебельные ножки с одинокой скуки грызть начал, гад курносый. Денщику взбучка, а пес в углу зубы скалит, смеется – на него и моль не сядет, собачка привилегированная. Ладно, думает Митрий. Попадется быстрая вошка на гребешок. Дай срок!
Поводил-покрутил командир мамашу, как кобылку на корде, невмоготу ему стало. Стал дома рейтузы просиживать. Придет с манежа, чай пьет, бублик промеж пальцев на пол крошит, приказы прошлогодние с досады читает. А она супротив. Как ячмень на глазу. Лопочет, разливается. Разговорная машинка у нее лихо работала. Хошь не отвечай, хошь на крыльцо выйди на луну сплюнуть, она знай жернов о жернов точит. Почему попадья перестала в баню ходить, да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал, да к какой гувернантке корнет Пафнутьев на будущей неделе в окно лезть собирается… Командир аж побуреет. «Угу» да «угу» – только и ответов.
Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал, ей не страшно насчет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут.
– Ступай, ступай, – говорит, – Митрий! Кушку моего по улицам выводи. Что ж ты его все по двору таскаешь. Этак ты его до водяного ожирения доведешь…
Насупился Митрий, стакан, который мыл, в руках у него хрястнул. Ужели от срамоты этакой так и не отвертеться?
Пошел на кухню, покрутился там, вертается веселый с ремешком энтим кобельковым: «Пожалуйте на променаж, прошу вас покорно!» На сахарок Кушку в переднюю выманил… Однако слышит – рычит Кушка, упирается, аж дверь трясется. Что такое?!
– Не хотят на улицу. Прямо морду ему чуть оторвал. Изволят упираться.
Попробовала старушка: может, денщик, черт, нарочно ожерелок потуже затянул? Грех клепать! Все, как следовает. Потянула: за ней идет, похрюкивает, животом пол метет. За Митрием – ни с места! Лапы распялит, башкой мотает, будто его в прорубь водяному на закуску тащат.
Глянул ротмистр, задумался. Ведь вот денщику судьба послабление какое сделала. А мамаша-то пензенская сидит как приклеенная. Не вырывается…
Дальше да больше. Дарья-кухарка через забор жила, кой-когда к денщику забегала – часы в темном углу проверить, мало ли дел по соседству. Известно: стар хочет спать, а молодые играть. Уследила барынина мамаша, на дыбы стала. «Ступай, ступай, шлендра! Подол в зубки, кругом марш!.. Нечего чужие сени боками засаливать»… И в сахарнице с той поры куски пересчитывать стала. Денщик только серьгой потряхивает, дюже его забрало. Барин, бывало, придет из собрания через край хлебнувши, сам себя не видит. В карты ему случаем пофартит, червонцы из кармана на стол брякнут – не считано, не мерено. Никогда Митрий дырявой полушкой не попользовался. А тут, накося, – сахар!.. Присыпала перцу к солдатскому сердцу.
Ладно. Стала она по-иному со скуки выкомаривать, откуль что берется. Сидит она вечером, на блюдечко толстой губой дует, самовар попискивает. Ротмистр из спичек виселицу строит, кому – неизвестно.
– Чтой-то, – говорит старушка, – двери у нас скрипят нынче. К дождю это беспременно. Смажь, Митрий, маслом – мне завтра в гостиные ряды идти, ужель мокнуть.
Денщик человек казенный. Смазал. Язык бы ей смазать, авось бы тож прояснило.
А она наддает:
– Ты, Митрий, вчерась опять каклетки оставшие с буфета не убрал?
– Виноват. Тараканов на кухне морил, запамятовал.
– Виноват… А знаешь ты, что это означает? Если мышь неубранное после ужина поест, у хозяина зубы разболятся.
Ротмистр под столом шпорами: дзык.
– Чепуха это, мамаша. На нетовую нитку бабьи вздохи нанизаны.
Старушка указательной косточкой по столу постучала.
– Скаль зубы! Конечно, есть приметы сырые: нос чешется – в рюмку глядеть. Другие ротмистры и без этого выпивают… Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон обточены. Не соврут… Скажем – конь ржет, всякий дурак знает – к добру. А вот ежели вороной жеребец в полночь на конюшне заржет – беда! Пожара в этом доме в ту же ночь жди. Хоть в шубе-калошах спать ложись.
Денщик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трет, плечики у него так и ходят… Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой варганчик завела:
– Либо поп дорогу перейдет – отплеваться завсегда можно. А ежели он, мимо перешедши, остановится, да табачку из табакерки хватит, да, не приведи Господи, чертыхнется – уж тому черной оспы не миновать. Я батюшек знакомых, которые нюхающие, за полверсты завсегда обхожу… Опять же собака воет. Случай серый. В какую сторону воет, вот в чем аллегория. На север – неблагополучные роды; на юг – потолок на тебя завалится; на восток – от грыжи помрешь; а коли на запад – молоко тебе в голову беспременно бросится. Приметы без промаху!
Командир виселицу свою спичечную раскидал, встал из-за стола, ноги ножницами раззявил. Голос мягкий, а под ним так смола и пробивается:
– Вы бы, мамаша, Кушку своего отравили, что ли. Больно много от него, стервы, опасностев. Это ж все равно что на ручных гранах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось, пойду пасьянц «Наполеонову могилу» перед сном разложу.
Смолчала старушка. Драгунский обычай известный: все смешки. Погоди, Изюм Марцыпанович, судьбой шутить – не барьеры брать…
А Митрий – у буфета он все кружился – этаким сладким кренделем подкатывается:
– Оно точно-с. Которые благородные, сумлеваются. Мужицкий пустобрех! А я верю-с. У нас тоже свои приметы имеются, орловские. Выдающие…
– Расскажи, дружок, расскажи. Пирожок, который оставши, можешь себе взять…
– Покорнейше благодарим, закусимши уже. Ежели, к примеру, пробка в графин не тем концом воткнута, значит, гость в дому загостился, пора ему, значит, на легком катере к себе собираться.
Глянула она на графин – поперхнулась, аж глаза побелели.
– Пошел вон, глуздырь! Скажу вот завтра командиру, чтоб тебя на хлеб на воду посадить за приметы твои дурацкие…
Пробку, как следовает, перевернула, сахарницу в буфет замкнула и поплелась к себе с Кушкой на покой – в сонное царство, перинное государство.
Ровно в полночь заржал на конюшне вороной жеребец. Прикинулась барынина мамаша, свет вздула да к командировым дверям:
– Вставай, зять! Пожар!
– Дед бабу рожал… В чем дело, мамаша?
– Жеребец твой ржет вороной. Слышишь?
– Не перекрашивать же из-за вас. Я во сне с городским головой пунш пил, а теперь он без меня все высосет. Беспокойная вы старушка…
Денщик тут же стоит, свечку держит, будто ружье на караул. Какой там сон! Белая кофта по бокам вьется – чистый саван. Бумажки в волосьях рыбками прыгают. А жеребец так и заливается. Ужасти-то какие!
– Дом-то у тебя хоть застрахован?
Вздохнул ротмистр: по ком этот вздох, тот бы в щепку иссох… И пошел к себе досыпать. Авось городской голова не все выпил.
А мамаша чулки-мантильку надела и до белой зари на сундучке подремала, – либо в эту ночь, либо в будущую беспременно гореть придется. До утра обошлось, ничего.
А утром еще злее беда накатила. Повела она Кушку на променаж, – с денщиком нипочем не шел, – трах, у самой калитки батюшка в трех шагах поперек прошелестел. Остановился, табачку из табакерки хватил да как чертыхнется:
– Экий дьявольский ветер, половину табакерки выдул, бес его забодай!..
Вернулась старушка, гайки у нее развинтились, по перильцам кое-как подтянулась. Взошла в столовую, шатается. Ротмистр к ручке, а она в кресло так студнем и осела.
– Что еще такое?!
– Ох, друг… Накликала на свою голову. Поперечный поп, табак нюхавши, чертыхнулся… Кушку моего тебе завещаю. Имение – дочке. Не подходи, не подходи лучше, я теперь вроде как в карантине. Черной воспы не миновать!
Подивился ротмистр. Жилка у нее на шее бьется, глаза мутные. Одурела, что ли, мамаша?… Да и впрямь чудно. Как по расписанию все выходит. Махнул перчаткой, шашку подтянул – дзык-дзык, на коня сел и в манеж.