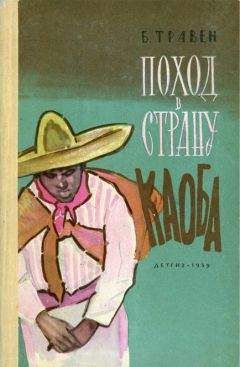III
— Этот Селсо, — начал рассказ Габино, — чертовски хороший парень, настоящий товарищ — он никогда не бросит тебя в беде. И, что особенно ценно на монтерии, превосходный работник, все умеет, за что ни возьмется. Валит лес, как медведь, таскает бревна, как слон, волочит их, как упряжка мулов, и так управляет быками, что они слушаются его, как хорошо вымуштрованные солдаты. Такого парня монтерия, конечно, потерять не хочет. И подцепить такого человека для энганчадора все равно, что напасть на золотую жилу.
У Селсо есть девушка в Икстаколкоте. Он мог бы уговорить ее бежать с ним. Но у парня доброе сердце, в этом его беда. Он не захотел причинить отцу девушки такое горе. А отец требует за девушку большой выкуп: она красивая, сильная и здоровая, и поэтому он хочет получить за нее кучу денег.
В Икстаколкоте Селсо за всю жизнь не заработать такой суммы. Он предложил старику три года батрачить у него, чтобы получить его дочь в жены. Но старик уперся. Он во что бы то ни стало хотел получить за дочь сколько-то — уж не помню, сколько — овец, коз, кукурузы, шерсти, табака. Куш получился изрядный. Можешь спросить у Хосе, что сидит вон у того костра, он из их селения. Он тебе точно скажет. Да, собственно говоря, какая разница — на десять баранов меньше или на пять коз больше. Селсо завербовался на кофейную плантацию где-то в районе Тапачула. Работал он до седьмого пота, отказывал себе во всем и за два года сколотил приличную сумму. Что говорить, деньги эти достались ему не дешево. На кофейных плантациях работа не сладкая. Немногим легче, чем на монтерии. Я это сам на своей шкуре испытал: три месяца работал там на уборке кофе. Они платят с корзины. А попробуй-ка, брат, собери хотя бы сотню корзин! Когда десятник — капатас — в дурном настроении, он говорит, что в твоей корзине полно незрелых бобов, и высыпает корзину в закром, не записывая ее за тобой. Выходит, ты собрал бесплатно целую корзину. Для дуэньо, то есть для хозяина плантации, эти бобы, конечно, не пропадают — он их пустит в дело, — пропадают они только для тебя.
Итак, два года Селсо там отработал, собрал нужные деньги и отправился домой. Выбрал он самую короткую и самую трудную дорогу — шел через Никивил и Сальвадор. В каждом селении, через которое ему пришлось проходить, сельский староста взимал с него пошлину за то, что он идет по деревенской улице. А если Селсо в пути попадался паршивый мостик, перекинутый через болото, то с него брали двадцать сентаво за переход. Повсюду в дороге ему предлагали самогон — агуардиенте. Он был дороже водки и, конечно, гораздо хуже — прямо яд. Везде парня пытались подпоить, чтобы арестовать и посадить за пьянство в карсель — в тюрьму. А наутро, очнувшись в карселе, он не обнаружил бы у себя ни одного сентаво. Ведь не приходится рассчитывать, что начальник полиции бесплатно упечет тебя в кутузку. А если подашь жалобу на то, что тебя обобрали в участке, то не меньше месяца протрубишь на принудительных работах за «оскорбление властей».
Но Селсо наслушался на плантациях рассказов других батраков-пеонов. В дороге он не пил ни глотка, даже если его угощали бесплатно, из чистой дружбы. За продукты, которые он покупал в пути, с него драли втридорога. Ведь он был сборщиком кофе и, разбогатев на плантациях, возвращался теперь домой.
Но Селсо держал ухо востро. Он шел одетый в лохмотья и никому не говорил, что работал на кофейных плантациях. Когда в какой-нибудь лавочке он спрашивал дорогу или когда представитель власти выяснял, откуда он идет, Селсо всегда отвечал, что перегонял из Ховеля в Уикстлу четырех мулов для своего хозяина. Ховель был последним городом, через который ему надо было пройти, прежде чем добраться до своего родного селения. Оттуда ему оставалось всего около двадцати километров.
Здесь он чувствовал себя уже почти дома. Ведь отец, бывало, не реже двух раз в месяц, а то и каждую неделю посылал Селсо в Ховель продавать кукурузу, шерсть, невыделанные шкуры или селитру.
Придя в Ховель, Селсо купил себе на пять сентаво бананов у мелкого торговца, разложившего свой товар на циновке между колоннами здания ратуши, пересек улицу и уселся на площади, чтобы поесть. Правда, на площади стояло не менее дюжины скамеек, но скамейки эти предназначались только для ладино — для цивилизованного населения города. Конечно, не все эти так называемые цивилизованные люди считали для себя обязательным умываться и бриться по утрам. По их мнению, такими пустяками можно было заниматься не чаще чем раз в неделю, в воскресенье, в послеобеденное время, и тем не менее они продолжали считаться ладино — цивилизованными людьми.
Полицейские тотчас прогнали бы Селсо — бродягу-индейца, — если бы он осмелился сесть на скамейку. Но с вымощенной булыжником площади полицейские не гоняли даже бездомных собак. Поэтому индейцы имели право, если хотели отдохнуть, расположиться на мостовой.
На одной из скамеек сидели два кабальеро. Они курили папиросы и ругали правительство.
Один из кабальеро сказал:
— Сколько здесь околачивается парней, которые не имеют даже рубашки, чтобы прикрыть свое грязное тело! А ходят с таким важным видом, словно получат в наследство весь город. Другие, наоборот, прибедняются. Вот взгляните на того индейца, который жрет бананы, сидя на корточках. Можно подумать, что, не подай ему сентаво, он околеет с голоду. А на самом деле у этого паршивого индейца, у этого чамулы, в поясе запрятано семьдесят песо.
— Откуда вам это известно?
— Да ведь он идет с моих кофейных плантаций — он там проработал два года. Его зовут Селсо. Это сын Франсиско Флореса из Икстаколкоты.
— Да ну? В самом деле?
— Точно вам говорю. Да я плевать хотел на этого чамулу! Подумать только, сколько сотен тысяч блестящих песо выкачал из нас губернатор, чтобы построить шоссе до Арриага, и сколько тысяч он еще сунет себе в карман, прежде чем можно будет проехать по этой дороге на автомобиле! Дело в том…
Но другой кабальеро не проявлял никакого интереса к тысячам песо, взимавшихся губернатором на строительство дороги, которую либо вовсе не строили, либо строили так плохо, что после каждого периода дождей надо было начинать всю работу сначала; пользуясь этим, губернатор назначал новые чрезвычайные налоги, львиная доля которых шла в его карман. Окажись кабальеро на месте губернатора, он поступал бы точно так же. Но, поскольку в настоящее время он не был губернатором, ему нужно было найти другой способ прикарманивать чужие песо. Поэтому он перестал слушать, как его собеседник поносит правительство, и, повернувшись к индейцу Селсо, крикнул:
— Эй ты, подойди-ка сюда!
Селсо обернулся и, увидев, что его зовет ладино, вскочил на ноги и с готовностью подбежал к кабальеро. Бананы, которые он принялся было есть, остались лежать на мостовой. Остановившись перед кабальеро, Селсо сказал:
— К вашим услугам, хозяин, к вашим услугам, патронсито!
— Ты меня знаешь? — спросил кабальеро.
— Конечно, патронсито, я вас знаю. Вы дон Сиксто.
— Верно. И я продал твоему отцу двух молодых быков. Он заплатил мне за них лишь часть денег и поклялся при поручителе Корнелио Санчес, которого ты тоже знаешь, что отдаст остальные деньги в тот самый день, когда ты вернешься с кофейных плантаций. Твой отец должен мне ровно шестьдесят семь песо пятьдесят сентаво. Отдай мне эти деньги — тогда твоему отцу не придется ехать в город по такой тяжелой дороге… Правду я говорю насчет долга, дон Эмильяно? — спросил дон Сиксто, обращаясь к другому кабальеро.
— Да, чистую правду, и за этот долг выдано поручительство по всей форме.
На мгновение у Селсо мелькнула мысль, что дон Эмильяно не может знать, существует ли этот долг и как выдано поручительство, потому что он видел дона Эмильяно за несколько дней до своего ухода с плантации. Но он тут же подумал, что индеец не может сомневаться в словах кабальеро. Ведь кабальеро прав, даже когда говорит, что земля вертится вокруг солнца, хотя каждый индеец может убедиться воочию, что солнце вертится вокруг земли. Кабальеро всегда прав. А тут целых два кабальеро утверждают одно и то же, а сам Селсо ничего не знает — ведь его целых два года не было дома.
Но индейцу не дали времени обдумать все как следует.
Дон Сиксто действовал стремительно.
— Выкладывай деньги, мучачо, — сказал он тоном, не терпящим возражений. — Если ты не заплатишь, я позову полицейского, и в тюрьме у тебя будет время обдумать, каково не платить долги.
Из печального опыта многих своих соплеменников Селсо знал, что в тюрьме — в карселе — индейцу приходится не сладко. Деньги у него так или иначе отнимут, потому что спрятать их там невозможно, а кроме того, его еще упекут месяца на три на принудительные работы за поступок, который у них называется «злостным уклонением от выполнения долговых обязательств». Стоит только судье или начальнику полиции придумать название для любого поступка индейца, как этот поступок, будь он самым невинным, превращается в преступление.