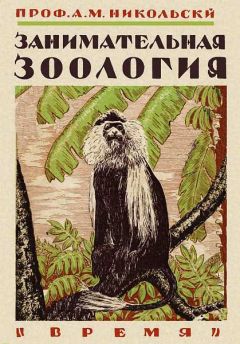Каждое утро и каждый вечер два черных тюремщика, два черных охранника в касках, надвинутых на самые глаза, вели Патрика Мизонго на допрос.
И каждое утро, и каждый вечер они отводили его назад в камеру, избитого и окровавленного.
Допрос вел белый человек, начальник полиции.
«Назови своих друзей, — говорил он Патрику Мизонго, — расскажи нам, где они скрываются, и ты будешь свободен. Ты даже получишь деньги, правда, небольшие деньги, но все же деньги».
Но Патрик Мизонго молчал. Он даже не смотрел на этого человека. Он смотрел на своих черных конвоиров, смотрел на них с презрением и жалостью. Он знал, что эти люди, так же, как и он, родились в бедных хижинах и бегали босиком, и голодали, и боялись каждого белого, — так почему же они теперь стали конвоирами, охранниками, тюремщиками? Почему теперь с такой важностью держат они автоматы?
И конвоиры угадывали это презрение в его взгляде, и потому били его особенно жестоко… Били на глазах у белого начальника, чтобы заставить говорить.
Но он молчал. Он не говорил ни слова.
На третий день его отвезли в суд.
В зал суда никого не пустили. Повсюду стояли полицейские.
«Патрик Мизонго, — спросил толстый судья. — Признаете ли вы себя виновным в преступной деятельности?»
Патрик Мизонго поднял голову. После пыток он едва держался на ногах. Но сейчас он собрал все силы.
«Если борьбу за свободу вы считаете преступлением, — сказал он гордо, — если борьбу за то, чтобы белые и черные были равны, вы считаете преступлением, то да, я признаю себя виновным в таком преступлении».
«Он признался! — закричал судья, обращаясь к пустому залу. — Вот видите, он признался!»
А Патрик Мизонго только улыбнулся и не сказал ничего больше.
Приговор он выслушал спокойно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда судья произнес: «Смертная казнь».
Его увезли назад, в тюрьму, но поместили уже в другую камеру, в камеру смертников. Это была просторная светлая камера — сквозь решетку небольшого окна было видно небо и птиц в небе. В этой тюрьме смертников специально помещали в такие камеры, чтобы им еще сильнее хотелось жить, чтобы еще страшнее было умирать…
Патрик Мизонго опустился на железную койку. Он не заметил, как наступил вечер и в камере стало совсем темно. Он думал о своей жизни и о друзьях, которые остались на свободе, и о том, что теперь у него впереди только одно-единственное дело — умереть достойно…
И ни он, ни охранники, что стояли на своих вышках, ни начальник тюрьмы, который, отдыхая, курил в своем кабинете толстую сигару, никто не знал, что над тюрьмой кружит вертолет. Это был совсем особенный, бесшумный вертолет. Правда, одному из охранников показалось, будто какая-то тень скользнула по его лицу, но он подумал, что это пролетела ночная птица или промчалась мимо летучая мышь…
Уже наступила ночь, темная африканская ночь, и лучи прожекторов шарили по двору тюрьмы и по стенам.
А тем временем вертолет так же бесшумно застыл над крышей — и по веревочной лестнице из него спустились два чернокожих человека.
«Вот здесь!» — сказал один из них.
«Быстрее!» — сказал другой.
И оба принялись за работу.
Патрик Мизонго вздрогнул, когда услышал какой-то легкий скрежет. Он поднял голову и увидел, что в потолке камеры появилось небольшое отверстие…
Через несколько минут Патрик Мизонго уже поднимался по веревочной лестнице в вертолет.
А когда, наконец, спохватились охранники, когда зазвенели отчаянные звонки в кабинете начальника тюрьмы и в кабинете начальника полиции, когда во дворе завыла сирена и залаяли сторожевые собаки, и заметались по небу узкие лучи прожекторов, вертолет был уже далеко — возле самой границы. Ведь это был особенный вертолет — когда надо, у него убирались лопасти, включался реактивный двигатель, и тогда он несся со скоростью звука…
Пока вертолет не пересек границу, в кабине стояла напряженная тишина. Но вот граница осталась позади, и теперь летчик обернулся — он был бледнолицым и светловолосым — и весело подмигнул Патрику. И Патрик Мизонго, хотя совсем ослаб от побоев в тюрьме и от пережитого волнения, все-таки тоже улыбнулся в ответ.
«Кто это?» — тихо спросил он своих чернокожих спутников.
«Наш друг, — ответили те. — То-ва-рищ. Ни-ко-лай Фе-до-се-ев».
А тюремщики и полицейские, и солдаты в касках, надвинутых на самые глаза, в бессильной ярости метались возле границы со своими сторожевыми собаками и спаренными пулеметами — и ничего не могли поделать…
Генка замолчал. Он сидел совсем тихо, не двигаясь. В комнате было уже темно, Таня едва различала, как смутно белеет его лицо на фоне окна.
— Ты выдумал это, да? — тихо, почти шепотом спросила Таня.
Генка ничего не ответил. Он спрыгнул с подоконника и зажег свет.
Тане скучно. Уроки она уже сделала и музыкой позанималась — торопливо сыграла заданные на дом этюды — и теперь явилась на кухню и ластится к матери:
— Мамочка, можно я схожу к Гене? Мамочка, ну на полчасика?
Обычно мать в таких случаях не выдерживает, уступает, но сегодня она никак не поддается.
— Нет, Таня, ты и так совсем от дома отбилась. Целые дни пропадаешь у своего Генки. Перед людьми даже неудобно — будто своего дома у тебя нет. Неужели ты не можешь завести себе подругу? Пригласила бы ее к нам, занимались бы вместе, играли. А то только и слышно: «Гена, Гена…» Или свет клином сошелся на Федосееве?
Когда мама начинает говорить вот так — ровным голосом, это значит, она теперь не скоро остановится. А как ей объяснишь, что дома у Генки всегда происходит что-нибудь интересное, всегда какие-нибудь новости?
Вот вчера — пришла Люся, Генкина сестра, остановилась в дверях. В левой руке — папка, в правой — голубая коробка с пломбирным тортом.
Люсю, пожалуй, нельзя назвать красивой, но все-таки она ужасно нравится Тане: высокая, коротко подстриженная, в сером свитере и узкой юбке, она выглядит очень гибкой и ловкой — настоящая спортсменка. Она и правда играет в баскетбол и волейбол, Генка говорит, даже очень неплохо играет. Когда Таня вырастет, она обязательно будет носить такой же свитер и такую же юбку и обязательно научится шутить так же, как Люся, с самым непроницаемым серьезным выражением лица.
— Лови! — подмигивает Люся брату и ловко, так, что торт летит, ни разу не перевернувшись в воздухе, бросает коробку Генке. Генка ловит коробку и смеется.
— Можете поздравить, — говорит Люся. — Все в порядке. Распределилась.
— И куда же? — спрашивает Ольга Ивановна.
— Куда и хотела. На Камчатку.
— На Камчатке кипяток бьет прямо из-под земли, — говорит Генка. — И вулканы. Вот здорово!
— Совершенно верно. У тебя блестящие познания в географии. Но это еще не причина для того, чтобы единолично набрасываться на торт. Мама, посмотри, какого ужасного сына ты воспитала. Хоть бы ради вежливости изобразил сначала печаль на лице. Все-таки сестра уезжает…
— Да, конечно, — вздыхает Ольга Ивановна. — В нашей семье расстояний меньше, чем до Камчатки, просто не признают…
— Вот именно, — в тон ей тут же отзывается Люся, — поэтому я и родилась в Забайкалье…
А потом все садятся за стол и мирно едят торт из пломбира, и рассуждают о том, что особенно пригодится Люсе на Камчатке…
А два дня назад принесли письмо от Генкиного брата, не от старшего, а от другого, от того, что служит в армии, солдатом, тоже интересно. Он так подробно описывал в письме лыжные соревнования… Только не простые лыжные соревнования, а особенные. Они называются: «бег патрулей». Это значит, что лыжник бежит с вещмешком за плечами и с винтовкой, да еще потом должен стрелять в мишень. Пробежать десять километров и стрелять не так-то просто…
Вообще в почтовом ящике у Федосеевых редко бывает пусто. Если Генка достает почту, то обязательно выуживает оттуда либо открытку для матери, либо толстую бандероль, адресованную брату, опоясанную рядами разноцветных марок. Марки Генка тут же отдирает, хотя никогда не коллекционировал и не собирается коллекционировать их. Так, на всякий случай…
А Тане ужасно завидно — почему им даже самые обыкновенные письма приходят так редко — только по праздникам. Зато уж когда наступают праздники, жаловаться не на что, почтальоны то и дело звонят в их квартиру. По праздникам даже Таня получает открытки от маминых родственников. Только одно плохо — Таня уже заранее знает, что там будет написано, и какого числа придет открытка, и чья там будет подпись… А вот Генка потому всегда так бежит к почтовому ящику, что он никогда не может сказать заранее, что его ждет там сегодня… А еще, наверно, он надеется, что вдруг да придет письмо от старшего брата… Хоть и говорил тот «не ждите», но все-таки, кто знает, вдруг да придет… Но от него по-прежнему нет никаких известий…