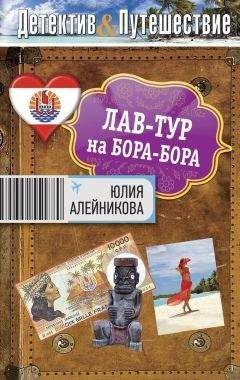Пообедав в леспромхозовской столовой, Таёжка, Василий Петрович и Мишка зашли в леспромхоз к директору. Семён Прокофьич присел рядом с Забелиным на диван и сказал:
— Ну, выкладывай, Петрович. Вижу, что-то стряслось. Ты именинник, что ль?
Василий Петрович засмеялся:
— Бери выше. Жена приезжает.
— Ух ты! Вот это молодчага. Теперь ты, можно сказать, коренной сибиряк. Всеми корнями врос.
— Корням и почва нужна, а, Прокофьич?
— Ты про жильё? — Директор пошевелил широкими седыми бровями и задумался. — Вот что. В Мариновке-то тебя легко устроить. Дадим целый дом. Только захочет ли жена в деревне жить? Работа есть, конечно, и в Озёрске, но ты там нужней. Не знаю, как без тебя обойдёмся…
— Разве я сказал, что хочу переехать? — удивился Василий Петрович.
— Тогда дело другое. Бери сейчас мою легковушку и поезжай встречать. — Семён Прокофьич хлопнул Забелина по плечу и подмигнул. — Завидую тебе. Ну, бывай.
На станцию они приехали за десять минут до прихода поезда. Василий Петрович бегал по платформе и всё время поглядывал на часы. Таёжка стояла, прислонившись к дощатому забору станции, слушала, как радостно и гулко стучит сердце.
Наконец показался поезд. Устало посапывая, прошёл мимо паровоз, за ним катились вагоны, и в тамбуре одного из них стояла мама.
— Мама! — вскрикнула Таёжка, бросаясь к вагону.
Мать легко спрыгнула с подножки, поставила на землю чемодан и прижала к себе Таёжку. Василий Петрович обнял жену и дочь, и все трое с минуту стояли молча. Потом они стали целоваться. Мишка отвернулся. Он не любил телячьих нежностей. Василий Петрович опомнился первым. Он подвёл Мишку и сказал:
— Это Миша Терёхин, товарищ Таисии… Миша, познакомься — Галина Николаевна.
— Мне Тая писала о тебе, — сказала Галина Николаевна, улыбаясь Мишке. Улыбка у неё была ласковая и белозубая.
Потом они уселись в машину: Мишка рядом с шофёром, а остальные на заднем сиденье.
— Вася, господи, — смеясь, говорила Галина Николаевна, — в Москве бы я тебя не узнала. Сапоги, картуз. И эта бородища. Немедленно сбрей её. Ты же не в партизанском отряде.
«Что ли, по болотам в сандалетах ходить? — подумал Мишка. — И борода Василию Петровичу идёт».
В шофёрском зеркальце он видел молодое, красивое лицо Галины Николаевны, и ему вдруг стало чудно, что эта чужая женщина — мать Таёжки и жена Василия Петровича.
Забелины устроились в доме напротив сельпо. Раньше здесь был детский сад, но в прошлом году колхоз построил новое помещение, и с тех пор дом пустовал.
Галина Николаевна и Таёжка провозились целый день, наводя порядок: мыли полы, посуду, выставляли зимние рамы и сметали из углов паутину.
Но комнаты по-прежнему выглядели нежилыми. Не хватало им вещей, которые всё ещё шли малой скоростью где-то по Барабинским степям.
— Будем жить, как на вокзале, — грустно сказала мать. — Но делать нечего.
Она достала деньги и велела Таёжке сходить в магазин за продуктами. К вечеру ждали гостей.
Таёжка ушла, а Галина Николаевна взяла у соседей ведра и отправилась на реку, хотя колодец находился рядом. Но колодец был с норовом: он успел уже проглотить два ведра, и теперь Галина Николаевна боялась его.
— Возьмите коромысло, руки нарежет, — догнала её соседка.
До сих пор Галина Николаевна видела только в кино, как носят воду на коромысле. А сейчас пришлось испытать самой. Проклятое коромысло невыносимо резало плечи, ведра раскачивались тяжёлыми маятниками. И Галину Николаевну водило из стороны в сторону, будто пьяную.
Проходя вдоль улицы, Галина Николаевна до боли закусила губу. Ей казалось, что из каждого окна за нею следят насмешливые, беспощадные глаза: «Что, голубушка? Это тебе не краники с горячей и холодной водичкой отвёртывать!»
Вода расплёскивалась, обдавая брызгами новые босоножки.
«Чёрт с ними, с босоножками! — зло думала Галина Николаевна. — Только бы до дому добраться».
Домой она принесла наполовину пустые ведра. Она села на пороге, прислушиваясь к тупой боли в правой руке: занозила, когда мыла подоконники. Хорошо ещё, что полы оказались крашеными.
Она не заметила, как вернулась дочь.
— Ну что? — спросила Галина Николаевна.
— Мяса нет, мама. Придётся в чайной готовое брать.
Галина Николаевна промолчала.
— Я вижу, тебе у нас не нравится, — виновато сказала Таёжка.
— Нет, нет, что ты! Чудесная река, воздух как на даче.
Галину Николаевну больно кольнуло это слово: «у нас». Не «здесь», а именно «у нас». Как будто она чужая им обоим: мужу и дочери.
Галина Николаевна ещё больше помрачнела.
Таёжка обняла её за плечи, поцеловала в щёку и горячо зашептала:
— Мамочка! Честное слово, всё будет здорово. Знаешь, сколько здесь ягод, грибов! Бруснику и чернику прямо совками собирают. Не веришь? Делают совки с такими зубьями, — Таёжка растопырила пальцы, — и гребут. Нам с Мишкой тут очень глянется.
— Глянется?!
— Ну да. Так Мишка говорит вместо «нравится».
Галина Николаевна громко рассмеялась. Таёжка непонимающе глядела на неё.
— Не обращай внимания. Я просто вспомнила, как твой Мишка ел апельсин. Прямо с кожурой. И глаза у него были такие, будто он хину жевал.
— Разве это смешно? — спросила Таёжка, не глядя на мать. — Смешно, что Мишка никогда не видел апельсина? Но ведь он не виноват, что родился в Сибири.
— Прости, — сказала Галина Николаевна, — я не хотела никого обидеть. Давай-ка лучше готовить обед, а то скоро папа придёт.
Отец пришёл под вечер вместе с Семёном Прокофьичем.
— Вот это есть моё начальство, — сказал он. — Прошу любить и жаловать.
Семён Прокофьич бережно подержал в своей корявой ладони руку Галины Николаевны и так же бережно отпустил, словно это была не рука, а стеклянная ёлочная игрушка. Потом директор вышел в сени и вернулся оттуда с большой картонной коробкой.
— Это вам, стал быть, на новоселье, — смущаясь и покряхтывая, объяснил он.
В коробке оказался прекрасный эстонский приёмник. Галина Николаевна всплеснула руками:
— Семён Прокофьич, ну как же можно делать такие подарки?! «Октава»! Это же безумно дорогая вещь!
— Ну уж дорогая… — пробормотал директор и смутился ещё больше.
Через полчаса, когда Галина Николаевна уже собрала на стол, стали подходить гости. Все они с одинаковым радушием поздравляли её с приездом и, чокаясь, желали счастья.
Семён Прокофьич потянулся к ней через стол с рюмкой и спросил:
— Простите, Галя, а вы кто будете по специальности?
— Я? Я врач-педиатр.
— Вы бы нам попроще, по-русски, — попросил кто-то.
Галина Николаевна улыбнулась:
— Ну, по-русски — детский врач.
— Ёлки-моталки! — воскликнул Семён Прокофьич, обращаясь почему-то к Забелину. — Значит, наших ребятишек лечить будет? А, Петрович?
За столом оживлённо загудели. Таёжка смотрела на зардевшееся лицо матери, на отца, чисто выбритого и улыбчивого, и не было сейчас человека счастливее, чем она. Особенно девочка радовалась за мать: Галину Николаевну встретили так, будто она родилась здесь, в Мариновке, потом долго училась в городе и наконец-то вернулась домой.
Таёжка подошла к отцу и шепнула на ухо:
— Спой. Ну, ту песню… нашу.
Василий Петрович кивнул и взял гитару. Первые аккорды прозвучали тревожно и грозно:
Чёрный ворон, что ты вьёшься
Над моею головой?..
И жёсткие мужские голоса отозвались с угрюмой удалью:
Ты добы-ычи не дождёшься-а,
Я солдат ещё живой.
Пели задумчиво, со сдвинутыми бровями. И Таёжка вдруг подумала, что её отец когда-то вот так же сидел с друзьями в партизанской землянке, а вокруг летала смерть. И партизаны пели, веря в победу:
Ты добычи не дождёшься.
Чёрный ворон, — я не твой.
Василий Петрович не любил вспоминать о войне, но иногда что-то наводило его на думы о тех нелёгких днях, и он рассказывал дочери про своих боевых товарищей, рассказывал скупо и сдержанно, а потом целую ночь ворочался в постели и курил…
С полуночи гости стали расходиться. Василий Петрович провожал всех до калитки и просил заглядывать почаще.
Утром, чуть засветало, отец разбудил Таёжку и приложил палец к губам.
— Тише. В лес с нами пойдёшь?
— С кем? — не поняла спросонья Таёжка.
— Ну, со мной и с вашими ребятами.
— А что, таксаторы уже приехали?
— Да. Ещё вчера.
Таёжка встала, на цыпочках прошла к умывальнику, потом оделась и заглянула в горницу. Мать ещё спала, разметав по подушке густые ореховые волосы. Во сне она чему-то улыбалась. И Таёжке очень захотелось крепко-крепко прижаться к матери и зажмуриться.