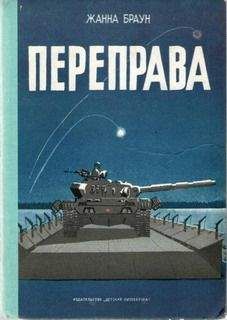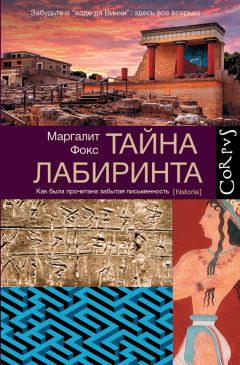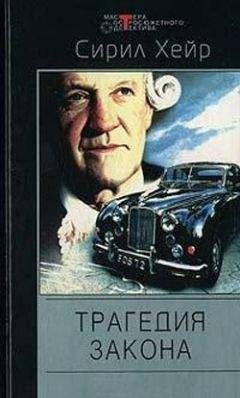— Тоже инвалид нашелся!
— Не веришь? — искренне возмутился Виталий. — А ну пойдем, выйдем — докажу!
Очередь хохотала, и вокруг Хуторчука образовалась атмосфера дружелюбия. Он оглянулся на ошеломленно застывшего у двери Малахова и подмигнул: знай наших!
— Бери, бери, сынок, — сказала, улыбаясь, пожилая буфетчица. — Видно, крепко тебе, бедному, досталось от шведов… Чашки-то сам донесешь? Девушки, помогите инвалиду.
— Ни за что! — испуганно сказал Виталий. — Я убежденный холостяк. Меня нельзя руками трогать!
В очереди снова рассмеялись и не возражали, что Виталий кроме кофе набрал еще и бутербродов.
Торжествуя, он притащил все это на освободившийся столик.
— Вот что значит овладеть ситуацией, Боря. Мотай на ус. Давай глотай в темпе, времени в обрез.
Малахов все еще не мог прийти в себя.
— Ну, знаешь… Я бы так и под пулеметом не смог. Да и вообще, как-то не очень…
— Выражайся точнее, — потребовал Виталий, снимая фуражку. Поискал глазами, куда бы ее примостить, не нашел и снова надел, надвинув глубоко на лоб.
— Видишь ли… как бы тебе…
— Я ж говорил: филолог, — с удовлетворением сказал Хуторчук. — Офицер, Боря, должен уметь точно формулировать и кратко излагать. Короче, что ты имеешь в виду?
— Этот спектакль… — Малахов опять замялся. Одним неосторожным словом можно разрушить и многолетнюю дружбу, а они знакомы всего-то несколько часов, но, считая нечестным молчать, подумав нехорошо о человеке, с которым начались дружеские отношения, продолжил: — Прости, пожалуйста, но ты же все-таки в форме… погоны, ну и прочее. Как-то не вяжется.
Оживленное настроение, владевшее Хуторчуком, после удачной, по его мнению, шутки пропало.
— Не трудись дальше, Малахов, — скучным голосом сказал он, вяло дожевывая бутерброд. — Я понял. За «прочим» стоит снижение уровня, попрание достоинства и тэ дэ. Я правильно усек?
Малахов огорченно кивнул. Хуторчук молча допил кофе, вытащил из пластмассового стаканчика полоску серой плотной бумаги, хотел было промокнуть губы, но передумал и тщательно, один за другим, вытер пальцы.
— Скажи, Малахов, а как, собственно, ты представляешь себе современного офицера? — внезапно спросил Хуторчук.
Малахов мог бы честно сказать, что никак. Хуторчук был первым лично знакомым ему офицером. Со всеми остальными на военной кафедре в институте и на стажировке в воинской части отношения были строго официальными. Но он промолчал, не желая снова попасть впросак.
— Понятно, — Виталий покивал головой и вздохнул, — ты, как и многие, уверен, что офицер, блюдя свое достоинство, должен и спать ложиться в сапогах, при погонах, с фуражкой под подушкой. Этакий, прости меня, солдафон с квадратной башкой, в которой ничего, кроме уставных знаний…
Малахов вспыхнул. Он краснел так же мгновенно, как отец, и всю жизнь мучился, считая эту свою особенность недостатком.
— Я совершенно не о том, — запротестовал было он, но Хуторчук перебил его.
— О том, о том. Да я не в обиде, не думай. К сожалению, ты не одинок. Легче из понтона шляпу сделать, чем разрушить стереотип. Огорчил ты меня другим. Боюсь, что с чувством юмора у тебя слабовато.
— С чего ты взял? — обиделся Малахов.
Хуторчук усмехнулся.
— Я давно заметил, что люди без чувства юмора относятся к себе с огромным уважением, любят говорить о попрании, строят глобальные выводы на ерунде и, прости меня, обижаются, когда им платят той же монетой. Ладно, Малахов, послужишь — сам поймешь, что офицеры такие же живые люди, как все, а не роботы с жесткой программой. — Он взглянул на часы и встревожился: — Конец света! Учти, не успеем постричься — убью!
Малахов, кляня себя в душе за неуместную искренность, поплелся следом за Хуторчуком. Парикмахерская была рядом со штабом. Хуторчук влетел в нее пулей и тут же выскочил навстречу Малахову.
— Нам повезло, филолог! Два места свободны. Я ж говорил: все будет тип-топ!
Владимир Лукьянович Груздев сидел за письменным столом и с неприязнью рассматривал свое отражение в темном мокром стекле. Дождь проворно барабанил в окна, не давал собраться с мыслями.
Давний рассказ партизанского командира, так логично и стройно сложившийся в мыслях, на бумагу ложился коряво, слова топорщились, мешали друг другу. Груздев оторвал взгляд от окна и с ожесточением посмотрел на листы рукописи, густо испещренные правкой. Каждый раз, когда работа не ладилась, Груздев решал бросить эту «литературную хворобу». Не дал бог таланта и не надо. Видно, не его это дело. У него другая специальность — замполит полка. Не до забавы… А может, прав полковник, назвав ночные бдения своего замполита забавой?
Владимир Лукьянович подпер подбородок кулаком и снова уперся взглядом в темное окно, точно увидев в нем вместо себя полковника Муравьева с легкой усмешкой на большеротом скуластом лице.
— Говорят, вы забаву себе нашли? Воспоминания пишете или просто литературкой балуетесь?
Владимир Лукьянович стушевался тогда от неожиданности. Был уверен, что для всего гарнизона его ночные бдения тайна, и отделался одной фразой:
— Воспоминания отца привожу в порядок.
В этой фразе была полуправда. Воспоминаний отец не писал, но рассказывал о войне, которую проделал сапером, много. Особенно в праздничные дни, когда съезжались к ним боевые товарищи отца. Да и друзья отца тоже не отмалчивались. Их рассказы и мечтал написать Груздев, пока еще жили они в его памяти, чтоб не сгинули бесследно, не потерялись для молодых. Он и всегда-то увлекался военной историей, а рассказы ветеранов — история живая, героическая…
А может, стоило рассказать о своей работе полковнику, посоветоваться? Он сам, вероятно, помнит живые рассказы участников войны, и другие офицеры — у каждого отец или дед воевал. Собрать бы все эти рассказы вместе!..
Владимир Лукьянович разволновался, вылез из глубокого мягкого кресла и заходил по комнате, тяжело ступая по скрипучим половицам большими широкими ступнями в толстых шерстяных носках домашней вязки.
Он представил себе казарму, где на всех четырех этажах спят сейчас солдаты; выкрашенный в синий цвет плафон дежурного света, тускло освещающий ряды кроватей; турник у входа; одинокую фигуру дневального у тумбочки — и подумал с внезапным испугом: сумеет ли он написать так, чтобы передать этим молодым, не знавшим лиха парням свое волнение, свою боль и свою гордость эпохой, которая с каждым днем становится все более далеким прошлым. Когда уйдет последний ветеран, только письменные свидетельства будут питать память о ней. Даже такие, как его, литературно несовершенные… Не для славы же, в конце-то концов. Для них, для молодых, чтобы помнили они. Нет — знали. Потому что нельзя помнить того, что не знаешь.
В комнату тихонько заглянула Светлана Петровна. За круглыми очками-линзами глаза ее были почти не видны.
— Чай заварен. Принести или пойдешь к нам?
Владимир Лукьянович сердито растер ладонью мощный загривок и, не отвечая, уселся в кресло. Она подошла сзади, положила руки ему на плечи и наклонилась, дыша в ухо.
— Затор?
Он грузно повернулся к жене и в упор взглянул в ее светлые глаза, казавшиеся за линзами меньше, чем были.
— Скажи, Свет Петровна, может, я того, не за свое дело взялся? Муравьев говорит — забава…
— Дай почитать, тогда скажу.
— Честно?
Она промолчала, и Груздев виновато похлопал ее по руке. Разве его Петровна хоть когда-нибудь ловчила? Сколько ей, бедной, перепадало за правду-матку на работе и дома? Он же сам иногда срывался, когда бывал не в духе.
— Ладно, давай рукопись. Я только за платком схожу, — сказала Светлана Петровна и вышла. И тут же за стенкой возник обиженный Ксюшкин вопль:
— Я с вами хочу! Думаешь, сладко пить чай одной?
— У нас с отцом дела.
— У вас всегда дела. Вот выйду замуж вам назло, заплачете!
— Интересно, за кого? Капитаны все женаты, а среди лейтенантов я что-то дураков не видела. Может, за Перегудова?
Владимир Лукьянович засмеялся. Прапорщик Перегудов, старый холостяк, дослуживал последний срок. Говорили, что он когда-то чуть не женился на жадной, вздорной бабенке. О том, как он сбежал от нее, в полку ходили легенды. Одни утверждали, что он пошел выносить мусорное ведро и, оставив его посреди двора, сбежал в одних домашних тапочках. Другие уверяли, что он успел захватить свою гармонь, с которой вечерами отводит душу у себя в вещевом складе.
Насколько эти легенды соответствовали истине, никто толком не знал, но иногда, даже на совещаниях, когда хотели подчеркнуть особую трудность задачи, говорили: «Легче Перегудова женить».
Светлана Петровна вошла, посмеиваясь, поставила перед мужем стакан с крепчайшим чаем, накрытый домашней сдобой.