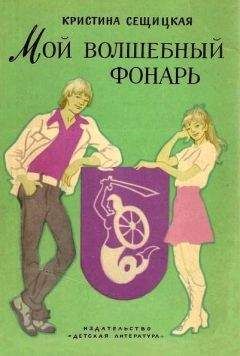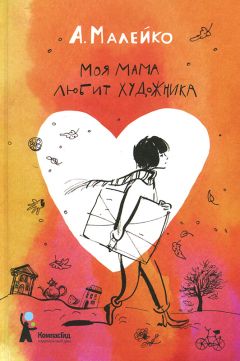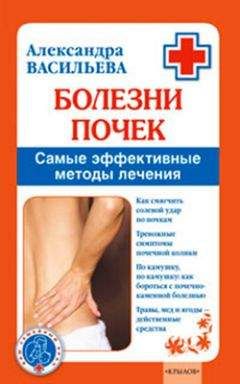И снова уставился на мои унылые стены. А немного погодя сообщил:
— Купать малыша будет пани Шпулек.
— Почему? — удивился Ясек.
— Ну, первые дни мама, наверно, будет еще плохо себя чувствовать? — Анджей вопросительно посмотрел на меня.
— Безусловно, — подтвердила я.
— А ты сам, что ли, не можешь выкупать ребенка? Соседку нужно просить? — возмутился Ясек.
— Один я не возьмусь… — нахмурился Анджей. — Мне не справиться.
— Хочешь, я буду купать? — великодушно предложил Ясек. — Лишь бы родился.
— Ты в своем уме? — крикнула я.
— А что? Тоже мне, великое дело! Поставил мальца в ванночку, намылил, прополоскал, и готово!
— Новорожденного? Поставил? Да ты что! — воскликнул Анджей. — Он же на ногах не удержится!
— Точно… — спохватился Ясек.
В комнату ворвалась пани Капустинская.
— А ну, марш отсюда! Уходите! — закричала она, размахивая тряпкой. — Я буду натирать пол.
— Пошли, — пробормотал Ясек, стаскивая Глендзена с подоконника. — Пойдем к тебе, пора кончать дела.
— Какие дела? — поинтересовалась я.
— Мы убираемся, — ответил Анджей уже с порога. — Я мою окна, а Ясек переставляет мебель.
И они ушли.
— Дома ни за какие коврижки его не заставишь… — заворчала пани Капустинская. — А у Глендзенов — пожалуйста, задарма будет делать то, за что мать должна мне деньги платить. А это чего? — спросила она, поднимая с пола пухлый конверт. — Что-нибудь нужное?
В конверте лежало письмо, которое Агата вчера вечером написала Ане.
— Нужное.
Я уже читала это письмо, Агата показывала его мне сегодня утром, но теперь я еще раз перелистала исписанные странички.
Дорогая Аня!
Мне очень понравилось твое письмо, и я рада, что ты любишь читать. К сожалению, я не смогу тебе прислать ни одной из книжек моей сестры, потому что у нее они все только в черновиках.
Интересно, видела ли ты позавчера по телевизору выступление моего брата? Ты не представляешь, как этот мальчишка въедается нам в печенки!
Может быть, это чересчур сильно сказано, но вчера он, например, самым настоящим образом опозорил папу. Дело в том, что на телестудии Ясек был в папиной рубашке. На следующее утро мы все встали страшно поздно и как угорелые носились по квартире. Папа тоже носился как угорелый, даже побриться не успел.
Днем было очень жарко, и папа снял пиджак. Сидит он преспокойно за своей чертежной доской, корпит над очередным проектом, и вдруг в комнату входит секретарь партийной организации. Папа нам потом рассказывал, что секретарь долго смотрел на него в упор и наконец сказал: «Я прекрасно понимаю людей, которые стремятся как можно дольше оставаться молодыми, но вы, мне кажется, переусердствовали!» И тут только папа спохватился, что у него на рукаве рубашки красуется эмблема нашей школы. И стал во всех подробностях объяснять, откуда она взялась. Из его рассказа секретарю стало ясно, что у нашего Ясека нет ни одной собственной рубашки, и это вина не Ясека, а папы, потому что долг каждого отца обеспечить своего ребенка рубашкой.
И хотя секретарь с самого начала весело над папой подтрунивал, папа никак не хотел замечать его юмора. Каждое слово он воспринимал буквально — он вообще ужасно серьезно относится ко всему, что касается его детей, то есть нас. А все потому, что мы никак не можем приблизиться к идеалу, который появился в папином воображении, когда мы были еще в пеленках. Тот идеальный мальчик отпорол бы эмблему от рубашки, как только ее снял, да еще выдернул бы все до одной ниточки. Но Ясеку такое и на ум не пришло! А насчет ниточек говорить нечего. И вся эта история, так позабавившая секретаря партийной организации, послужила лишним доказательством того, что в своей роли воспитателя папа потерпел очередную неудачу.
А дома, окончательно убедившись в своем банкротстве, папа коварно попытался все самое неприятное свалить на маму. «Ты должна ему сказать… — настаивал он. — Ты обязана ему внушить. Ты воспитываешь лентяя и неряху!» А потом ему вдруг стало ужасно себя жалко. «У меня уже ничего нет своего, все он у меня отбирает, скоро потребует мой портфель и скажет, что я могу обойтись пляжной сумкой!» Тут черт меня дернул рассмеяться: я представила себе, как папа отправляется на работу с пестрой пляжной сумкой в руке. Мне бы сидеть и помалкивать — нет, захихикала. Папа почувствовал себя вдвойне банкротом, но это бы еще ничего, если б мама не решила восполнить пробел в нашем воспитании, причем немедленно. И меня отправили в ванную. Почему-то родители считают ванную единственным местом, где в нас может заговорить совесть. Спустя несколько минут меня оттуда выпустили, а мое место занял Ясек, который попытался втолковать папе, что ему хотелось появиться перед телезрителями в свитере и, следовательно, вся вина за неотпоротую эмблему целиком ложится на маму. Тогда мама взорвалась, как испорченный кинескоп. Ясек просидел в ванной еще меньше, чем я, ибо его роль в истории с эмблемой была столь очевидна, что для объективного признания вины ему потребовалось не более нескольких минут затворничества; таким образом, его путь в Каноссу оказался недолог, по прибытии же на место он застал там, кроме римского папы, еще свою сестру Агату. Кстати, наш папа в роли Григория VII был просто великолепен.
Ты спрашиваешь, неужели мне действительно не нравится ни один мальчишка. Мне нравится спортивный комментатор Мрозик, но его мальчишкой не назовешь. А больше никто. Боюсь, я совершила ту же ошибку, что папа. Я выдумала идеал, с которым вряд ли кому-нибудь удастся сравниться. Моя сестра опасается, что я постепенно начну снижать свои требования. Но пока я не снижаю, может быть, потому, что не вижу, ради кого. Почти все наши девчонки влюблены в Марека Зарембу, а у меня что-то не получается. Я честно пыталась разжечь в своем сердце пламенную любовь к Мареку, но это занятие мне быстро надоело.
Знаешь, что я люблю? Вечером лечь в постель и помечтать перед сном. Я сочиняю всякие истории, в которых участвуют разные люди, придумываю для них имена, фамилии, стараюсь представить, как они выглядят. Когда мама заходит в комнату, я закрываю глаза и дышу ровно, как будто сплю. А на самом деле я смотрю свой собственный фильм, в котором мои актеры играют по моему сценарию. Когда я рассказала об этом Яне, она призналась, что ей это все знакомо. В моем возрасте она тоже любила мечтать по вечерам, да и сейчас иногда такое с ней случается… Ты не представляешь, как это здорово! Яна полагает, что эта чудесная способность исчезнет, когда мы станем старше. Что настоящая жизнь и живые люди вытеснят тех, кто существует только в нашем воображении. Как же будет тогда? Яна считает, что это целиком и полностью зависит от нас, потому что в жизни, как и в мечтах, мы сами пишем сценарии. «Только актеры, которым мы доверяем роли, могут оказаться плохими», — говорит Яна. Но ведь и актеров выбирать должны мы сами!
Тебе еще не надоело читать мои излияния, Аня? Знаешь, у тебя очень красивое имя. В отличие от моего. Одному папе оно безумно нравится. Яна и Ясек унаследовали свои имена от родителей, так что у нас в семье две Янины и два Яна. На мою долю, к сожалению, ничего не осталось, потому что родителей у нас всего двое. Впрочем, тебе я признаюсь, хотя хвалиться тут нечем. Честно говоря, меня назвали в честь козы. Да, да, я именно это хотела написать! В честь козы. Когда мой папа был маленький, он одно время жил у своего дяди в деревне, и ему приходилось пасти козу. Папа ужасно к этой козе привязался, она как будто была очень симпатичная. Звали ее Агата. Вот откуда взялось мое имя. Может быть, конечно, козе оно и подходит, но я-то не коза… В школе меня зовут Агава.
Пани Капустинская повесила занавески. Я с облегчением вздохнула: это предвещало близкий конец уборки. Почти целый час, кроме нас с ней, дома никого не было — Агата с длинным списком необходимых покупок гоняла по магазинам в поисках копченого лосося, который в этом списке занимал восьмое по порядку, но первое по значению место. У нас дома никто не любит копченого лосося, но почему-то мама глубоко убеждена, что без него не может обойтись ни один торжественный ужин. Сегодня Агата охотилась за лососем специально ради того, чтобы угодить изысканному вкусу старого маразматика. И эта печальная необходимость наполняла ее душу горечью.
— Во мне вскипает пролетарская кровь! — пожаловалась она мне перед уходом. — Точно он не может обойтись ливерной колбасой или хлебом с брынзой.
Напрасно я пыталась напомнить ей о традиционном польском гостеприимстве — пролетарское происхождение внушило Агате свои представления по целому ряду вопросов, и правила гостеприимства у нее связаны исключительно с брынзой.
Я заметила, что Агата вообще любит ссылаться на нашу бабусю — мамину маму. Все мы очень любим бабусю, а Агата вдобавок ужасно ею гордится, даже, пожалуй, кичится, как будто она у нас по крайней мере прославленный герой или известный ученый. Наша бабуся была прачкой. До войны и во время оккупации ей приходилось зарабатывать на жизнь стиркой, потому что дедушка умер, когда старшему из троих детей было восемь лет. Только после того, как дядя Томек начал работать, гора грязного белья в их доме постепенно стала уменьшаться. Потом вышла замуж тетя Инка, а за ней и наша мама. Теперь бабуся получает пенсию и живет с тетей Инкой и ее мужем. Тетя купила стиральную машину. Но в кухне у них до сих нор стоит громадная стиральная доска, сизые ребра которой потускнели от долгого бездействия. Всякий раз, когда мы приходим к бабусе, Агата отправляется на кухню, садится на белую блестящую табуретку и долго сидит, не сводя глаз со стиральной доски, точно хочет прочесть по ней историю бабусиной жизни и маминой юности. Бабуся в белоснежном переднике хлопочет на кухне, готовя для нас разноцветные бутерброды. С яичком, ломтиками помидора, ветчиной, зеленым луком, творожком и красным перцем. В руках у нее все кипит, хотя распухшие в суставах пальцы кажутся неловкими. Агата смотрит на эти искривленные пальцы, смотрит на доску, и душа ее переполняется уважением и любовью к бабусе. Мамино увлечение копченым лососем она склонна рассматривать как измену всему тому, что окружало маму в детстве. Измену бабусе и стиральной доске.