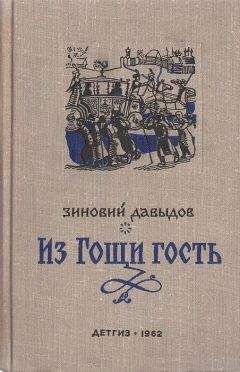— Отколь?.. Страшный ты… Ох!..
Кузёмка помог Акилле встать, и они вместе побрели к задворным избушкам за конюшней.
В избе у Кузёмки было, как прежде, чисто и порядливо. Играла девочка на лавке на ворохе тряпья. Топилась печь; котел с водой стоял на припечье.
И Матренка тоже не сразу признала Кузьму. А когда признала мужа в истерзанном мужике, черном, как земля, то стала выть, пала пластом на пол, стала корчиться, как в падучей. И ребенок заплакал с перепугу, да и Кузёмке в бороду натекает слеза. Кое-как уложили они Матренку на лавку, успокоилась она, лежит молча в изнеможении и глядит на Кузьму. Пришлось Кузёмке самому истопить себе баню.
В бане Акилла кричал на Кузёмку; задыхаясь от кашля, стучал клюшкой об пол; а потом принялся гладить Кузьму по голове поседевшей, по ногам изъязвленным, по ребрам, торчавшим, как грабли.
— Глупый ты, — словно увещевал он Кузьму, когда тот омылся наконец от всей скверны, которая налегла на него за весь его нелепый и страшный путь. — Глуп, глуп, хоть и бородушка по пуп, — твердил старик. — Ходил ты за море да по еловы шишки. Ну для чего за рубеж ходил? Спослал князь Иван. Для чего спослал? Царя Димитрия искать. Нашел ты за рубежом царя? Тьфу! И ходил ни по что и принес ничего…
Кузёмка лежал на скамье в предбаннике, теплом и душистом от нагретого дерева, от кваса, которым для Кузёмкиной услады плеснул раза два в каменку Акилла. Старик что-то еще говорил, журил кого-то, кажется Кузёмку, но дремота, точно чистыми холстами, укутала Кузьму, и он слабо различал Акиллины слова:
— Царь твой был, да сгнил. На кривой не проехал, едино только, что в уши баклуши надул. Охти мне! И я полынь-траву садил, не без меня, окаянная, уродилась.
И сквозь дрёму разбирал Кузёмка еле, что дело это все же миновало и что стало нынче от нового — от Василия Ивановича царя — Акилле еще горше; что промышлять надо теперь все о том же, о чем промышлял Акилла всю жизнь: о выходе крестьянском, о злости приказной, о мытаре[169] немилосердном, о неправде боярской. И еще рассказал Акилла, что нет теперь князя Ивана в хоромах. Наехали тому дней пять стрельцы с каким-то Пятунькой да с приставом розыскным, вынули у князя Ивана книги и письма, великую котому многоразличного писания, оставленного у князя Григорием-книгописцем. А потом расспрашивал пристав князя Ивана о заболоцкой шляхте и читал указ государев: «Как был ты, князь Иван, при расстриге в приближении, то впал в ересь и в вере пошатнулся, православную веру хулил, постов и христианского обычая не хранил и сносился с заболоцкой шляхтой, посылал к пану Заблоцкому мужика своего Кузьму; значит, хотел ты, князь Иван, отъехать за рубеж. Доискались уже государевы люди: говорил ты непригожие и хульные слова о великом государе Василии Ивановиче всея Руси, что-де деспот он и варвар; и о боярах говорил, что бояре-де сеют землю рожью, а живут все ложью; и о воскресении мертвых говорил, что молиться не для чего — воскресения мертвых не будет. И, нарядившись в гусарское платье, ездил ты пьяный к князю Семену Ивановичу Шаховскому и спорился с ним: гордыней и безмерством говорил многие слова стихами в сугубое поношение святым угодникам и чудотворцам. И за многие твои вины повелел тебе великий государь Василий Иванович всея Руси ехать в ссылку немедля, на Волок Ламской, в Иосифов монастырь, в заточение под строгий начал».
Увезли князя Ивана в ту же ночь. Книги взяли, а хоромы запечатали.
Дремота уже не одолевала Кузёмку, и он слушал внимательно. И понял, что все они теперь в одной беде: и живущий на задворье в сокрыве Акилла, и беглый Кузёмка, и ссыльный заточник князь Хворостинин Иван.
В ночь, когда привезли князя Ивана в Иосифов монастырь, выпал первый снег.
Темно было в келье, но от снега посветлела слюдяная окончина, да из-под двери пробилась внутрь белая снежная полоса. Прошел монах, старец-будильник, и постучал в дверь; потом другой старец отпер дверь снаружи и вошел к князю Ивану без молитвы и спроса. Князь Иван присел на мешке, набитом соломой…
— Чего тебе, отче?..
— Не велено… не велено… — стал шамкать беззубым ртом дряхлый старик. В озябшей руке у него чуть теплилась тоненькая свечечка, и огонек, обдаваемый дыханием, клонило то в одну сторону, то в другую.
— Чего не велено? — спросил князь Иван, поеживаясь от холода, разглядывая свою келью, не совсем еще понимая, что же такое с ним стряслось, как же будет дальше.
— Не велено… не велено… — твердил упрямо старец. — Отдай… отдай…
— Чего те отдать, старый? Скажи толком.
— Черниленку отдай, перышко отдай, бумагу, мелок-уголек… Хи-хи!..
И старик, прилепив свечку к подоконнику, стал обшаривать князя Ивана, снял с него чернильницу поясную, вытащил из кармана бумаги клочок.
— Древен ты, — сказал князь Иван. — Землей пахнешь.
— И то, — согласился старец, — землей. Земля есмь прах и навоз, червям пища. И ты — навоз. Хи-хи!
Князь Иван дернулся тут, пихнул старца, тот откатился и сел на пол.
— Господи Сусе, — забормотал он, — спаси спасе, сыне божий, владычица-троеручица, скорая помощница… Старца убогого до смерти убил… убил… Ужо я тебя в земляную тюрьму, коль будешь несмирен. Попомнишь Исайю старца. — И он поднялся с пола и побрел к окошку за свечкой.
— Отче, — окликнул его князь Иван. — Исайя тебе имя?
— Исайя, — подтвердил монах, — Исайя. А был я в миру до пострижения Ивашко Бубен. Славен бубен за горой. Да то уж минуло лет тому с два сорока. А теперь я Исайя, старец тюремный… Тебя буду сторожить. Гляди!.. — погрозил он князю Ивану и поплелся к двери.
Князь Иван остался один.
— Кузёмка, — стал шептать он, стал твердить, стал повторять без конца. — Кузёмка, Кузёмка, неужто Кузёмка?.. — И даже стихами у князя пошло:
Зла была его порода,
Словно аспидского рода,
От раба моего изнемог,
И никто мне не помог.
От Кузёмки изнемогаю. Предал меня, значит, мой же холоп. Погибель тебе, дукс Иван, от вепря, от змея. Через Кузёмку дознались они обо всем.
Князь Иван сунулся за черниленкой, за бумагой, но Исайя унес все с собой. И ничего не осталось теперь князю Ивану, как твердить наизусть свои вирши, сновать по келье, хвататься руками за решетку в окне. Потом ударил колокол к заутрене. Потом и к обедне. И целый день, почти без перерыва, гудели, пели, разговаривали колокола. Чтобы не думать, чтобы не скорбеть, чтобы умом не помрачиться, стал подбирать князь Иван слова к колокольному звону: день… тень… длин… сон… Это были малые, «зазвонные» колокола. Взбуженные звонарем, они всякий раз начинали переговариваться, как бы нехотя и вяло:
День…
Тень…
Длин…
Сон…
Но скоро разговор становился все живей, все дробней:
День, тень…
Длин сон…
Сон длин, день длин…
Так казалось князю Ивану, который, сгорбившись, сидел на лавке в промозглой келье и ждал невесть чего. И хоть о длинном дне твердили колокола и нескончаемым казался он князю Ивану, но настал вечер, потемнела окончина за решеткой, визг пошел из крысиных нор в земляном полу. Наконец пришел Исайя, поставил на подоконник деревянную тарелку с хлебом и рыбой и, посветив свечкой по углам, молвил:
— Не велено тебя выпускать из кельи до воскресенья. Поживи тут без церковного пения под моим началом. Буду тебя истязать крепко в смирении и вере. Ибо несмирен ты и горд. Самомнением обуян и гордыней. Старца, монашеским чином украшенного, нонче утром до полусмерти убил. Царю непослушен, бешеный!.. — стал кричать Исайя, надвигаясь со свечкой своей на князя Ивана. — Великому государю, патриархом помазанному!.. Тьфу тебе, пес!
Старец и впрямь стал брызгать слюной князю Ивану на кафтан, на шапку, в лицо. Князь Иван откинулся, потом с силой выбросил кулак Исайе в брюхо. Старец упал навзничь, бросил потухшую свечку и пополз к двери, бормоча:
— Ужо тебе будет… В тюрьму в земляную… Завтра… Бешеный, тьфу тебе, тьфу!
И, выползши на крыльцо, побрел к игумену, к отцу Арсению в хоромы.
Но сажать князя Ивана в земляную отец игумен не благословил. В земляной сидел уже другой узник, привезенный в обитель из Ярославля всего тому с месяц, и от великого государя Василия Ивановича было указано прямо: держать его неисходно в рогатке[170] в земляной тюрьме. Ни имени, ни прозвища присланного не значилось в указе. Именовался он просто вралем и великого государя супостатом. «И когда решенный враль станет облыгаться и кричать пустое во отступлении ума, то сторожа и монастырская братия и кто случится затворяли б слух и отбегали от земляной тюрьмы изрядно, шагов на тридцать и больше, и ты бы, отец игумен, говорил братье, что посажен в земляную великий грешник и враль, врет-несет, а что-де солгано, то — враки».