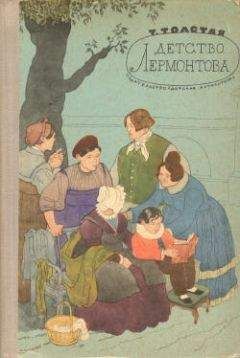Он пошел к бабушке со строгим вопросом: когда же они поедут? Бабушка со вздохом ответила, что теперь уже скоро. Она заранее была недовольна, что придется гостить в Кропотове: к сожалению, Юрий Петрович еще не выправил те документы, которые необходимы Мишеньке для поступления в Московский университетский пансион. Придется подталкивать зятька, а то без документов куда примут? Ехать можно, ехать… Значит, пора укладываться!
Миша даже запел от удовольствия и поцеловал жесткую руку Арсеньевой.
Он подошел к окошку. Голубоватый серебристый пруд, скрытый верхушками высоких кустов, переплетенных над аллеями, манил глаз покоем и тишиной.
— «Белеет парус одинокой…» — стал напевать мальчик.
Резко повернувшись, он подошел к шкафу, вынул оттуда альбом своей матери и ее дневник и уложил на дно дорожной шкатулки, потом взял свой голубой бархатный альбом и подумал, что туда следует переписать «Шильонского узника» Жуковского и «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. Альбом с трудом помещался в шкатулке — так он был велик; поверх него легла поэма Бестужева-Марлинского «Андрей Переяславский». Миша нажал пружинку и проверил небольшое потайное отделение под крышкой. Там лежали две книги Рылеева: «Думы» и «Войнаровский» и альманах «Полярная звезда». Миша закрыл и осмотрел шкатулку: нет, догадаться, что́ тут скрыто, невозможно.
Он захлопнул крышку и вышел на балкон. Двойственные чувства боролись в нем. Нестерпимо жаль было расставаться с Тарханами, со сказочно-прекрасным садом, с беседкой, где он провел столько часов в размышлении. Он должен был проститься с милыми, близкими сердцу людьми, которых знал с младенчества; их жестоко отдаляли от него, но они были все-таки родными и любимыми… Мальчик вышел в сад и сел в беседке. Облокотившись на перила, он глядел на пруд, но вид на берег загораживали свежие листья распускавшихся розовых кустов. Ветер шевелил листву, и дыхание солнечной весны опьяняло мальчика. Он стал напевать: «Куст прелестных роз, взлелеянных весной…» — но тотчас же остановил себя. Кто подсказал ему эти слова: забытый им автор или аромат весенней земли? Он стал припоминать. Нет, не автор, нет… Значит, он сам сочинил эту строчку?
Миша начал напевать дальше, и получилось стихотворение. Потом он спел его еще раз, переставляя строки, и ему понравилось. Мальчик поспешил домой, поднялся по лестнице к себе в комнату и стал записывать, но некоторые строки ускользнули из памяти, другие показались не такими складными, какими казались сначала.
Вечером, перед сном, Миша прочел записанные им стихи еще раз, и в некоторых местах они показались ему тяжеловесными. Но одна строчка преследовала его:
Куст прелестных роз, взлелеянных весной…
Эта строчка останется в памяти и без остальных, а если и остальные хороши, то и они вспомнятся… А вдруг бабушка найдет его стихи и станет их читать соседям? А вдруг соседи скажут, что стихи плохие?
Миша самолюбиво оглянулся и резким движением поднес листочек к свечке. Бумага вспыхнула и скоро почернела; он бросил ее на подсвечник и стал приглядываться, можно ли различить следы букв. Нельзя. Он сжег свои первые стихи, но не мог забыть созданную им строчку.
Надо будет написать это стихотворение потом, когда он станет постарше. Ведь ему сейчас всего двенадцать лет. О, если бы знать, сколько он проживет! Может быть, он со временем станет таким стариком, как дед Сорокин, с длинной белой бородой, и будет еле передвигать ноги. Нет. Скорее всего, он поедет в кругосветное плавание, вернется оттуда молодым моряком и выйдет на Сенатскую площадь в день восстания, а потом его казнят. Кто знает? Миша вспоминал, что два раза ему пророчили быть великим человеком, и понимал, что надо будет жестоко бороться, чтобы добиться славы.
Он чувствовал в себе силу неимоверную и готов был на подвиг. Перед отъездом он захотел высечь свое имя на большом камне, лежащем на поляне, но остановился, решив: пусть здесь высекут люди мое имя, если оно станет бессмертным, а если нет, то не надо.
Мальчики рассказали бабушке, что задумал Миша, — Арсеньева испугалась и предложила выпить Мишеньке гофманских капель: она нашла, что голова у него горяченькая. Дядя Афанасий, который присутствовал при этом разговоре, наставнически заметил, обращаясь к Мише:
— Ты не думай, что ты умнее всех!
Но Миша посмотрел на «предка» таким напряженным взглядом, что Афанасий Алексеевич нахмурился и отвел глаза. Очень трудно было выдержать, когда Миша в волнении пронизывал глазами человека насквозь, и многие в смущении отворачивались или отходили; людям неприятно было чувствовать, что мальчик разгадал тебя вполне, хотя ты этого и не хотел.
Когда Миша подходил к бабушке, он обыкновенно успокаивался, зная, что она философскими вопросами не занималась, а всегда думала о чем-нибудь жизненном и очень простом. Теперь бабушка ездила прощаться с соседями и рассказывала всем, что приходится ей покидать любимые ею Тарханы ради того, чтобы везти Мишеньку в Москву, давать ему образование.
Мальчика спрашивали, хочется ли ему уезжать отсюда, но он переводил разговор. Особенно трудно было отвечать тетушке Марье Акимовне Шан-Гирей: она была такая милая, такая умница, и с ней, конечно, жаль было расставаться.
Миша не мог наглядеться. Какие чудесные места! Как хорошо в полях по дороге в Опалиху!.. Не забудет он тень от весеннего солнца в Чембаре за дубом. В роще так сладостно бродить, размышляя, или там же вкушать иное наслаждение — вынуть из портфеля альбом и чернильницу, обточить гусиное перо и, устроившись поудобнее, переписывать стихи Пушкина, иногда задумываясь и дерзновенно изменяя некоторые слова и строчки.
Но впереди — Москва. Когда Миша думал о Москве, сердце его начинало биться сильнее обычного. Он видел перед собою блистающий, златоглавый Кремль, видел улицы большого города, представлял себе людей, с которыми ему хотелось познакомиться и говорить. Новая жизнь, широкая, величавая, как течение Москвы-реки, мерещилась ему, и он прикрывал глаза, мечтая как можно дольше удержать лучезарное видение.
Теперь он перестал торопиться и не торопил бабушку, потому что все шло своим чередом. Никанор красил экипаж и готовил лошадей, Абрам Филиппович нагружал телеги нескончаемым количеством продовольствия, мешки и бочки громоздились друг на друга, и, право, этими запасами можно было прокормить батальон солдат. Кроме того, грузили одежду, шубы, разные вещи, нужные и ненужные: одеяла, перины, подушки, безделушки, посуду… Горничная девушка Сима с тремя самыми любимыми собаками Арсеньевой и с длинным списком, на котором ввиду неграмотности ее были изображены какими-то иероглифами все переданные ей вещи, поехала с дворовыми вперед, чтобы подготовить снятую в Москве квартиру к прибытию Арсеньевой с внуком.
Наконец наступил желанный, волнующий час. У крыльца звякнули знакомые дорожные колокольчики, и после разных обрядностей можно было наконец сесть в дорожный возок, летний возок, открытый. Погода стояла ослепительно солнечная, и нельзя было в такой день не чувствовать себя счастливым.
У крыльца собрались не только дворовые, — пришли крестьяне из Тархан и из деревни Новоселовки, отныне переименованной в Михайловское. Все они заполнили двор и стали у ворот, провожая в Москву юного Лермантова. Они принесли полевые цветы, зеленые ветки берез, как на троицу, и столпились вокруг возка с поклонами и приветствиями, а Миша, взволнованный, веселый, с одними целовался, другим пожимал руку. Дворовые мальчики собрались стайкой; Миша долго с ними прощался.
Арсеньева стала торопить:
— Мишенька, пора!
Он встал, желая всех видеть. Лошади медленно тронулись, а он махал рукой в знак приветствия, сжимая цветы, ему подаренные. Так длилось долго, пока наконец Никанор, прибавив ходу, не выехал в поле. Уже только издали виднелись фигуры знакомых людей, да мальчики-сверстники бежали за экипажем, догоняя его. Лошади мчали быстро, ветер раздувал волосы, а солнце светило ласково и празднично, и чувствовалось — торжественный день наступил: он едет в Москву!
И юный Лермантов не хотел говорить: «Прощай, Тарханы!» — нет, он уезжал необычно ликующий и, напевая, повторял:
Покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву!
Гу́менник — место, где ставят хлеб в кладях и где его молотят; крытый ток, или «ладонь».
Конопля́ник — участок, засаженный коноплей.
Ленорман Мария-Анна-Аделаида (1772–1843) — популярная в Париже гадалка, известность которой началась с того, что она предсказала Наполеону I, что он станет императором.