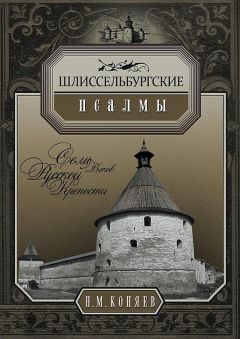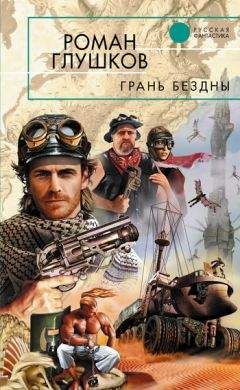— Ну, план мой, пожалуй, тоже панорама, только с высоты птичьего полета. Как-нибудь при случае покажу. Вы, господин маркиз, где квартируетесь здесь в Ниеншанце?
— Везде и нигде.
— То есть?
— Пожитки мои еще на корабле, а сам я, как видите, слоняюсь по белу свету, пока не обрету пристанища. Я — фаталист и предоставляю все судьбе: куда заведет, туда и приткнусь.
Фон Конов дружелюбно похлопал его по спине.
— Так благодарите же вашу судьбу: я — человек вдовый, одинокий, принять у себя в доме такого милого представителя великой Франции мне и лестно, и приятно. Переберитесь-ка сейчас ко мне?
— О широком гостеприимстве северян я наслышался давно, — отвечал «представитель Франции», с теплотою пожимая руку майора, — и не откажусь хотя бы уже для того, чтобы прославлять потом шведское хлебосольство.
— А я постараюсь оправдать нашу славу. Для такого дорогого гостя мне надо будет заказать еще экстренное блюдо. Так не повернуть ли нам обратно?
Когда они проходили снова мимо бегавших вокруг цветочной клумбы детей, инвалид-сторож оказался тут же и принялся тотчас ворчать на играющих, чтобы показать перед майором свое служебное усердие. Но внимание служивого было внезапно отвлечено совершенно необычными в общественном саду звуками — хрюканьем свиньи. Инвалид растерялся, потому что хавронья должна была быть в двух шагах; между тем видать ее нигде не было. Догадался он о виновнике мистификации лишь тогда, когда, как бы в ответ хавронье, завизжал поросенок и ребятишки всею оравой, ликуя, бросились следом за Лукашкой. Но фон Конову такая непрошеная свита, видимо, была не по душе, и Иван Петрович сделал камердинеру серьезное внушение — не паясничать в присутствии господ. Но калмык достиг своей цели — еще более утвердил в шведском майоре мнение о его, Люсьена, дураковатости.
Не прошло и часа времени, как гостеприимный швед вводил маркиза Ламбаля в свой дом.
Мыза фон Конова стояла на нынешней Воскресенской набережной, и окна отведенных Ивану Петровичу покоев, для тогдашнего времени весьма комфортабельных, выходили прямо на Неву, так что хозяин имел полное основание пригласить гостя полюбоваться открывшимся из окон обширным речным видом.
— Вон наискось — наш артиллерийский парк, а далее — Заячий остров, Иенусари, где, кроме зайцев, ничего путного не найдете, — объяснил он, не подозревая, что следующим же летом на этом самом пустынном острове будет уже заложена русским царем в защиту от шведов новая крепость. — Зато вот еще далее — на Лосином острове, Хирвисари, лоси гуляют целыми стадами.
— Не долго гулять им! — отозвался Иван Петрович, радостно потирая руки.
— У вас и руки уже зачесались? Беда вот только с этим стариком де ла Гарди…
— А это что за субъект?
— Человек-то он, в сущности, хороший, да в последнее время, бедняга, совсем с ума спятил. Дело в том, что он, как и я, тоже в майорском чине, но лет на двадцать меня старше и за смертью старого коменданта целых два года временно управлял здешней цитаделью, ну, и рассчитывал, понятно, что его утвердят в должности. На самом видном месте Лосиного он выстроил себе загородную виллу, завел рыбьи тони, зверинец… И вдруг ему на шею присылают сюда из Стокгольма нового коменданта, полковника Ополева…
— Отца фрёкен Хильды?
— Да. Ну, того это разом, конечно, подкосило. Сперва он впал в бешенство, потом в меланхолию и засел себе бирюком на своей мызе. В каждом ближнем он видит личного врага, в каждом иностранце — врага отечества и русского шпиона. Только комендант наш, странным образом, ладит еще с ним. Но объясняется это тем, что де ла Гарди — солдат до мозга костей и военную дисциплину ставит выше всего. Хотя он и зачислен уже в резерв, но в полковнике Опалеве признает еще своего шефа.
— Он, действительно, кажется, большой оригинал, — сказал Иван Петрович. — Чтобы охотиться на Лосином, пожалуй, придется заручиться еще его согласием?
— Для виду — да, хотя на деле охотиться там никому не воспрещено. Во всяком случае я, господин маркиз, вменю себе в особенное удовольствие сопутствовать вам, и завтра же, если только комендант уволит меня от дежурства, мы переправимся туда на пароме с гончими.
— А у вас есть и гончие?
— О! У меня целая псарня! — воскликнул фон Конов, весь оживляясь. — Угодно вам хоть сейчас осмотреть? До обеда у нас как раз достанет время.
— Виноват, господин майор, — вмешался тут в разговор калмык, глазевший на Неву из другого окошка, — а что же отсюда не видать города?
— Да вы, Люсьен, разве не заметили при переправе сюда, что Нева делает крутой поворот?
— Поворот? Хоть убейте — не припомню. Я все зевал по сторонам на речную панораму… А на вашей, господин майор, панораме, что досталась вам от покойного родителя, оба берега тоже выведены или один?
Простак Люсьен скорчил такую уморительно-глупую рожицу, что майор разразился опять хохотом.
— От вас, я виду, не отвяжешься, пока не покажешь вам моей «панорамы», — сказал он. — Погодите минуточку.
— И на что тебе, братец? — вполголоса спросил Иван Петрович камердинера по уходе хозяина. — Ведь слышал ты, что план у него старый, стало быть, никуда не пригодный?
— Не бойсь, пригодится.
— Вот вам и моя панорама! — сказал, входя, фон Конов и развернул на столе генеральный план старинного Ниеншанца. — Вы, Люсьен, должны вообразить себя стоящим на высокой-превысокой колокольне, откуда видишь внизу под собою всю окрестность, как на ладони. Понимаете вы?
— Как не понять… Только где же тут что?
— А вот тут Нева, тут моя мыза, а здесь город.
— Так… Теперь-то, пожалуй, я и сам тоже найду всякую штуку. Спросите-ка меня шутки ради, господин майор?
— Проэкзаменуем, — усмехнулся майор, которого все более потешала ребяческая наивность камердинера. — Где цитадель, ну-ка?
— А тут! — провел калмык ногтем по зубчатой линии вокруг города.
— Вот и сплоховали, ха-ха-ха! Это — прежние городские укрепления, от которых теперь остались только обвалившийся вал да заросший ров по пути к госпитальному саду.
— Где мы давеча с вами проходили?
— Ну, да. А цитадель вон где, на мызе. Окружают ее, видите ли, тоже вал да ров, и этот внутренний вал в полной исправности, а ров наполнен водою.
— И высокий вал?
— Да сажен в девять.
— Вот это так! А на валу, конечно, пушки?
— Еще бы: целых семь бастионов, а между бастионами высокий частокол.
— Ого! Так цитадель ваша, стало быть, совсем неприступна, — успокоенным тоном сказал Лукашка. — А город теперь разве не защищен?
— Защищен. Прежнего вала кругом хотя уже и нет, но взамен того с разных сторон возведены четыре наружных редута.
— Это что же такое?
— Редуты — полевые укрепления.
— Да тут на плане их что-то не видно.
— Попасть сюда, на старый план, они и не могли, потому что выстроены после. Один, самый сильный, редут вот здесь, на противоположном берегу Невы, под Смольной, остальные три на этом берегу, примерно вот тут, тут и тут… Впрочем, что же это я заболтался с вами! Ведь нам с господином маркизом надо еще на псарню. Неужели кабриолет еще не подан?
Фон Конов быстрыми шагами вышел.
— Ну, сударь, теперь уходи-ка тоже с Богом! — заторопил Лукашка своего господина.
— Тебе-то что?
— Уходи, уходи. А не то он план свой отберет сейчас опять.
— А ты копию снять хочешь?
— Копию не копию, а смастерить по нем свой собственный планчик.
— Ну, этого я не допущу: милого майора моего я настолько заэстимовал…
— Эстимы твои при тебе и будут. Ты веди свою линию, а я свою.
— Забил себе в башку — и никаким колом не вышибешь! — притворно рассердился Иван Петрович, который втайне, однако, не мог не сочувствовать патриотическому замыслу калмыка. — Я всячески омываю руце в неповинных!
— Само собою: ни ты, ни майор за меня не ответчики.
— Не забудь только дверь-то на ключ замкнуть.
— А уж об этом, батюшка, не печалься. Мне дай только на воз сесть, а ноги то я и сам подберу.
…Могучая рука
Спустила тетиву — и, сделав два прыжка,
Чудовищный олень без стона повалился.
Сага о Нибелунгах
Эй! улю-лю, родимые:
Эй! улю-лю, ату!
Некрасов
На старинной шведской карте конца XVII века в местности, занимаемой в наше время Петербургом и его окрестностями, показано до сорока поселений. Но поселения эти — в большинстве одинокие дворянские мызы или убогие маленькие деревушки — терялись по всему необъятному пространству нынешней столицы и раскинувшихся кругом дачных мест среди векового, почти нетронутого еще бора и болотистых тундр.
Мыза фон Конова стояла, как уже знают читатели, на видном месте — на теперешней Воскресенской набережной. Покойный отец майора, а затем и он сам постепенно расширили свое основное имение покупкою прилегающих участков, так что ко времени нашего рассказа владения майора простирались вниз по течению Невы вплоть до нынешней пристани петербургских пароходов в конце Английской набережной. Но если разведенный около господской мызы обширный парк мало чем отличался от европейских парков, то сейчас за парком начиналась изрядная глушь и топь, сквозь которую в иных местах не только в кабриолете, но и верхом едва можно было пробраться. Поэтому на первый раз фон Конов ограничился тем, что повез гостя через весь парк на ту сторону Фонтанки, где на месте нынешнего Летнего сада помещалась, кроме «образцовой» фермы, не менее образцовая псарня. Нахвалившись вдосталь своими породистыми легавыми и гончими, он повел маркиза еще в зверинец, где за особой изгородью содержалось маленькое стадо молодых лосей и диких коз, а в железных клетках — несколько хищных зверей: пара презабавных по своей неуклюжести медвежат, трое лисенят и один седой матерый волк, который, злобно косясь на двух почетных визитеров, ляскал на них зубами.