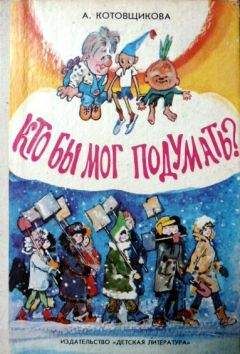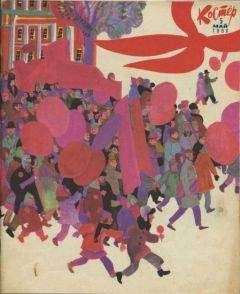Тень от черешни лежала на земле, вытянутая, очень широкая. Вечерняя прохлада после дневного зноя была приятна. Матвей не хотел, чтобы что-нибудь было ему приятно, но невольно вдыхал лёгкий ветерок с удовольствием.
На невысокий каменный забор влез со стороны улицы соседский Петька. Весь чёрный от загара, а может быть и от грязи, он взгромоздился на забор вместе с железным ободом от бочки.
— У меня обруч, — сказал Петька. — Выходи на улицу, погоняем.
— У меня мама умирает, — сказал Матвей. — Ей поздно сделали операцию. Надо было год назад. Как минимум.
Петька похлопал глазами, лицо у него стало уважительное.
— Говорят, у твоей матери рак?
— Да, — ответил Матвей, слегка прищурив глаза и глядя вдаль, чтобы Петька его больше уважал. — У неё оказался страшный рак.
Петька помолчал, потом сказал полувопросительно, полуутвердительно:
— Значит, гонять обруч ты не пойдёшь…
Матвей пожал плечами: мол, что за вопрос!
Лязгнуло железо. Это Петька сбросил на тротуар свой обруч. Через минуту и сам он исчез.
Высоко над головой Матвея реяли ласточки. Лёгкими стрелками проносились они со звонким щебетом. Из-под крыльца вылез Минус Единица, лениво поднялся по ступенькам, виляя пушистым хвостиком, и привалился Матвею на ноги.
— Совсем ты плохо растёшь, — упрекнул его Матвей. Минус Единице исполнилось два года, а он всё был как щенок.
Пёсик посмотрел в лицо мальчику преданными глазами и виновато постучал хвостом по ступеньке.
— Ничего ты не понимаешь, — сказал ему Матвей.
В тот момент он не знал, что и сам понимает немногим больше, чем Минус Единица. Бездумно повторил он Петьке то, что услышал в бессвязных рыданиях бабушки, в разговоре её с отцом. На самом деле Матвей совсем не верил, что мама умирает. Мало ли чего болтают люди, да и бабушка всегда преувеличивает…
По-настоящему он не верил, что мама умерла, и тогда, когда её похоронили.
Хоронили маму из больницы. Отец не взял Матвея на кладбище. Матвей объелся слив, у него заболел живот, немножко поднялась температура. С ним пришла посидеть соседка. Соседка в столовой вязала кружево, а Матюша лежал в спальне и читал книгу. С кладбища папа привёз бабушку на такси. Когда вошли в дом, бабушке стало плохо. Вызвали неотложку. Матвей не спрашивал про маму и в эти минуты не думал о ней. Вытянув шею, он смотрел, как врач в белом халате делает бабушке укол.
Понял Матвей, что мамы больше нет, совсем-совсем нет, только оказавшись в интернате.
Всё ему здесь не нравилось. На прогулку идут толпой, в столовую — толпой, в спальню вечером — тоже. В классе все пишут, и он пишет, это понятно. Но вот все взялись за ложки, и он должен браться за ложку. А если ему совсем не хочется есть? Если ему, наоборот, хочется в эту минуту поваляться на кровати? И чтобы никто не торчал у него перед глазами. Идут в лес, и он должен туда тащиться. Воспитательница говорит: «Не разбегайтесь, ребята! Идите дружно». А ему не хочется ни идти, ни разбегаться. Ему хочется сидеть в саду с книжкой.
Вокруг него куча народу. Бегают, говорят, смеются, ссорятся, кричат друг на друга, о чём-то спорят, чему-то радуются. А ему чудится, что он один. Совсем один. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким, как в этой толпе ребят.
Он как-то не знает, куда себя деть. Даже не знает, куда, например, сесть. Кругом много скамеек, можно сесть и прямо на траву. Но никуда садиться ему не хочется.
Даже ноги при ходьбе двигаются не так, как прежде. Куда другие идут — в класс, в спальню, в столовую, в сад, — туда и он плетётся. Но идти ему никуда не хочется.
О маме он старается не думать, потому что ведь мамы больше нет. Нигде нет: ни здесь, ни дома, ни на папином корабле, ни даже в Ленинграде, у её двоюродной сестры, тёти Маруси, ну просто совсем нигде. Если начинаешь думать о маме, то всё как-то сдавливается внутри, становится трудно дышать и вообще перестаёшь соображать. Так что уж лучше о маме не думать.
Без папы скучно и тоскливо. Папа на свете есть, но очень далеко. Плывёт где-то по океану. Сперва он уехал на автобусе в Севастополь, потом на поезде в Ленинград, потом на корабле куда-то…
За несколько дней до отправки Матвея в интернат папа притянул его к себе, поставил между колен. Лицо у папы было задумчивое и грустное.
— Послушай, Матвей, в конце концов, я мог бы и отказаться от экспедиции. Но я специально готовился к ней очень долго. Это очень нужная экспедиция. Сейчас не поехать было бы с моей стороны подлостью по отношению к людям: так сразу найти другого сотрудника на моё место в экспедиции было бы очень трудно. Ехать необходимо. Но, в крайнем случае, я мог бы сказать: «Товарищи, я не могу ехать, потому что у меня маленький сын…»
— Я не маленький, — сказал Матвей.
— Да, ты не маленький, — согласился папа. — Но ещё всё-таки не большой. И вот этого не маленького, но и не большого сына приходится помещать в интернат, а ему туда не хочется. Кроме того, мог бы я сказать, у нас заболела бабушка. И хотя я знаю, что ехать очень нужно, необходимо, всё-таки постарайтесь заменить меня другим человеком. Я говорю с тобой прямо, как мужчина с мужчиной. Ну что — ехать мне или нет? Скажи сам!
— Поезжай! — сказал Матвей. — Поезжай и скорей возвращайся!
И он даже не заплакал, расставаясь с папой в кабинете директора интерната. Нет, он не обижался на папу. Один мужчина не должен обижаться на другого мужчину, если тому надо плыть куда-то по морям и океанам в очень нужную экспедицию. Он просто скучал без папы, но не обижался на него.
А вот на бабушку Матвей сильно обижался: надо же было ей заболеть так не вовремя! Не заболела бы — его бы в интернат не отправили. Хоть и без папы, жили бы они дома, и он ходил бы в свою школу. Целую неделю он уже проучился во втором классе своей школы. А Петька учился в третьем классе. Они вместе возвращались домой и по дороге сбивали палкой каштаны. Ребята в том втором классе были все знакомые ещё с прошлого года. Только две девочки были новенькие да один Петраков уехал.
Здесь же, в интернатском втором классе, все ребята были незнакомые. Они заговаривали с Матвеем. Он отвечал односложно, сквозь зубы, а то и вовсе отмалчивался. Ребята отходили обиженные. Матвей держался отдельно, в сторонке. Из-за ствола дерева, из кустов, откуда-нибудь из угла он угрюмо наблюдал за ребятами.
Больше всего шуму от Митьки Лихова. Целый день он что-то выкрикивает, поёт, вертится, кривляется. Влезает на дерево, на подоконник, на крышку парты и с гиком, с шумом отовсюду спрыгивает. Всё он делает с криком. И как у него горло не заболит столько орать?
Воронков — маленький, как дошкольник, Лихову по плечо, тихий, послушный. Что ему велят, скорей-скорей сделает. А считать нисколечко не умеет. Даже противно.
Костя Жуков понравился бы папе: он весёлый, сильный, смелый. Учится лучше всех. Но может быть, он задавака? Ни разу не подошёл к Матвею, не заговорил с ним. А Матвей сам навязываться не станет.
Девчонки… Что с них проку? Томка Русланова, похожая, на колобок, без конца ко всем пристаёт: «Ой, ты, кажется, ногу ушиб? Больно? Давай перевяжу!», «Осторожно! Марусю с обрыва не столкните!», «Не плачь, Аллочка! Двойку исправишь. Хочешь, я тебе за обедом свой виноград отдам?»
Томка и к Матвею привязывалась: «У тебя голова не болит? Какой-то ты бледный. Давай отведу к сестричке, она тебе градусник поставит». И уже схватила Матвея за локоть. Он отпрянул: «Отстань!»
Соня Кривинская очень хитренькая, настоящая Лиса Патрикеевна. Говорит ласковым тоненьким голоском, а сама рада-радёхонька что-нибудь устроить исподтишка. Как-то прицепила Марусе Петровой репейников на подол. У той всё платье слепилось, скомкалось. «И как это я в репейник села?» — удивилась Маруся. Томка помогала ей отцеплять колючки. Соня тоже удивлялась и сочувственно хихикала. А Матвей-то видел, как она подкралась к Марусе сзади и в один миг прилепила к её платью целую горсть колючих комочков. Вздуть бы Соню хорошенько за такое ехидство. Но Матвей ничего не сказал. Потому что ему вообще не хотелось разговаривать.
«Подружился бы ты с кем-нибудь», — советовала Любовь Андреевна.
С кем же тут подружиться? Не с Окуньковыми же, которых прозвали Окуньками! Откуда взялись такие? Может быть, они ненормальные. Несмотря на всё своё безразличие, на Окуньков Матвей смотрел с большим любопытством. Он даже не подозревал, что бывают на свете такие мальчишки…
— Повторяю условие задачи, — поглядывая на доску, где уже белеют цифры, говорит учительница Антонина Васильевна. — На стоянке такси было пятнадцать машин. Через минуту шесть машин подъехали, а девять машин уехали. Сколько машин осталось на стоянке.