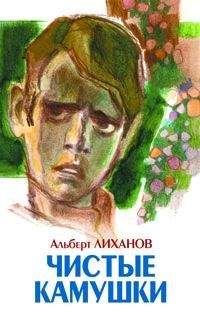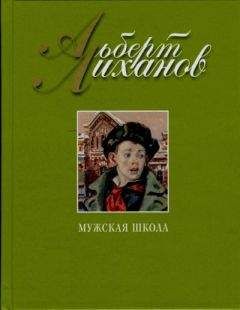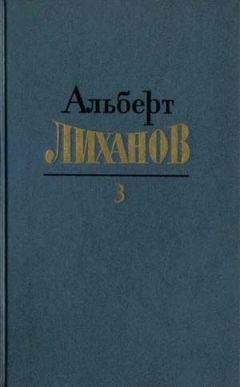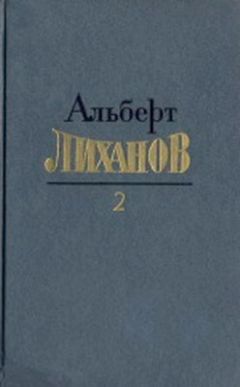– Михасик, перестань, перестань! Михасик… – говорила бабушка, но он не переставал, и у него это здорово быстро выходило.
Потом они перешли в другой класс, и Михаська снова мыл там пол и ругался, что ребята так много сорят и оставляют после себя столько грязи. Он находил на полу ржавые перышки, стружку от карандаша, а в одном месте чуть не напоролся на иголку.
Они кончили, когда стало уже темнеть, и Михаська спохватился, что его ждет Нина Петровна. Он скатился по лестнице и заглянул в учительскую. Нина Петровна уже ушла, и Михаська пошел наверх за сумкой.
– Только не говори бабушке, – сказала ему Лиза. – Она расстроится.
С нижнего этажа пришла Ивановна.
– Золотой ты мальчик, Михасик, – сказала она, собираясь. – Смотри-ка, вдвое быстрей управились.
Лиза принесла большой кулек. В нем были корочки от черного хлеба, огрызки, даже попадались целые куски. Ивановна стала складывать их в сумку, тихо приговаривая, будто сама себе:
– Ну вот и хорошо… Хорошие корочки.
– Зачем это? – спросил Михасик.
– Для кваса, Михасик, для кваса, – сказала Ивановна. – Мы из этих корочек квасок варим и продаем. Выручает нас маленько квасок, да не больно-то…
Михаська вспомнил Катьку с бутылью, с корзиной, торгующую квасом на рынке, вспомнил петушка, которого она принесла, и ему стало смертельно стыдно за то, что Катька увидела его тогда. Ведь мог бы он пройти мимо, не лезть к ней да еще и пить квас, будто говорить: «А я тебя видел!»
Теперь, выучив уроки, Михаська часто приходил к бабушке Ивановне, к Лизе и Катьке, и вся жизнь маленькой семьи была у него как на ладони.
Он помнил Катину и Лизину мать, ее высокий рост, белое лицо, удивительное белое, будто в муке, да еще зеленое пальто, перешитое из шинели.
Все несчастья свалились на Ивановну и девчонок сразу, без всякой пощады.
Перед войной Катька и Лиза жили с матерью у отца, на границе. Он был военный. Когда началась война, он сразу же отправил семью к Ивановне. Поезд с беженцами шел долго; и, когда Катька с Лизой и матерью приехали наконец, Ивановна показала им похоронную.
Немного оправившись от горя, мать устроилась на работу. Эвакуированных в то время приезжало много – каждый день не по одному эшелону; найти работу оказалось трудно, и она нанялась на хлебозавод развозить по магазинам деревянную тележку с хлебом. Было на заводе одно преимущество – иногда можно выпросить у работниц пекарного цеха кусок хлеба, а то и целых полбуханки. Это строго каралось. Если кого-нибудь из рабочих хлебозавода охранники задерживали с хлебом, его немедленно отдавали под суд, но есть было нечего, Катька и Лиза голодали, а их мама рисковала.
Тележка, которую она возила, налегая грудью на деревянную перекладину, была не очень уж и большая, и здоровому да сытому человеку катать ее вовсе не трудно. Но мать их после смерти отца постоянно болела, недоедала да еще и вставала посреди ночи, часа в три, потому что к этому времени хлебозавод давал выпечку и приходилось стоять в очереди вместе с такими же худыми и бледными женщинами в белых халатах, с такими же, как у нее, деревянными тележками, чтобы нагрузить хлеб и везти по магазинам.
Бывали у мамы несчастья, потому что иногда она не успевала сосчитать буханки, которые ей выдавали, и случалось, что хлеба не хватало. Это было, правда, редко, но если не хватает одной буханки, это значит, плати рублей триста за нее на рынке. А откуда у них такие деньги?
Случалось и другое, когда усталые раздатчики тоже обсчитывались на буханку-другую, им было легче, с них не спрашивали так строго, да и одна-две буханки за смену не так уж страшно для завода, и тогда мать их утаивала, приносила домой. Девчонки прыгали, отламывали горбушки, а мать глядела на них и беззвучно плакала. Она, наверное, стыдилась, что кого-то обманывала, но голод сильней стыда, да еще если голодают дети.
Тележка у мамы Лизы и Катьки была старая; случалось, у нее обламывалось колесо.
Михаська шел однажды куда-то, была слякотная осень, и вдруг он увидел у обочины дороги мать Лизы и Катьки, стоявшую на коленях возле тележки со сломанным колесом. Она пыталась починить ее, надеть колесо на ось, но тележка была с хлебом, а хлеб был сырой, – на полкило выходил совсем маленький кусочек, говорили тогда, что в хлеб нарочно добавляют воды, – и она не могла поднять покосившуюся набок тележку. Михаська подошел к тележке, попробовал помочь ее поднять, но что он мог тогда, в сорок первом? Такой-то замухрышка.
Тогда мама Лизы и Катьки попросила его сходить на хлебозавод, сказать, чтоб послали кого на помощь, и Михаська сбегал, дождался, когда выйдут из проходной три женщины, тоже развозчицы, и привел их к тележке.
В другой раз Михаська увидел, как рядом с матерью, напирая на деревянную перекладину руками, шла Катька.
Начинало подмерзать, грязь сделалась гладкой, и тележку заносило в сторону. Михаська подбежал тогда к ним, запрягся третьим в упряжку и подумал, что, наверное, со стороны они походят на людей с картинки, которую он видел в довоенном журнале. Оборванные люди тянут по реке баржу. Только и разницы, что они не такие уж оборванные.
Беда случилась тогда же, осенью сорок первого, буквально через несколько дней после того, как Михаська помогал Катьке и ее маме.
Рано утром, было совсем еще темно, в коридоре вдруг раздался дикий крик. Михаська вскочил. Мама в одной рубашке выбежала в коридор и быстро вернулась, такая бледная, что даже в темноте было видно.
Она зажгла керосиновую лампу и долго сидела молча, сжав губы. Михаська тормошил ее, спрашивал, что случилось, хотел сам выйти в коридор, но она его не пустила, а потом сказала, что маму Лизы и Катьки задавила машина.
Михаська не поверил, снова пошел к двери, но мама схватила его, закрыла дверь на ключ и легла. Ее знобило. Может, подумала: а что, если вот так же случилось бы с ней? Куда бы делся тогда Михаська? Ведь ни бабушки, никого у них нет. Значит, в детдом.
Михаська ходил на похороны вместе с мамой. Развозчицы хлеба сняли с двух тележек, которые они всегда возили, хлебные фургончики, тележки соединили между собой. Кто-то принес еловые ветки. Ветки были удивительные – серебристые, почти белые и очень красивые. Они были от серебристой ели, нарубили в ботаническом саду. Еловыми лапами убрали сдвоенную тележку, на нее поставили тесовый гроб. Потом развозчицы вытащили из сумок белые халаты и надели их поверх пальто. Затем они взялись за тележку со всех четырех сторон, человек двадцать в белых халатах поверх пальто, и покатили гроб в сторону кладбища.
Они шли тихо; наверное, никогда так тихо не возили они хлебные тележки. Гроб был заколочен – Михаська так и не увидел больше маму Лизы и Кати. Девочки шли, взяв под руки бабушку, у Ивановны почему-то тряслась голова. Она совсем поседела за эту ночь.
Потом Михаська узнал, что хлебную тележку, которую везла мама Катьки и Лизы, занесло на гололеде, а вслед за ней шел грузовик, шофер стал тормозить, и машину тоже понесло по скользкому льду прямо на тележку…
Катька сказала Михаське через несколько дней, что шофером тоже была женщина; она шла на похоронах рядом с ними, но Михаська ее не заметил тогда.
Он увидел ее позже. Это была пожилая тетка. Удивительно, что она водила машину, но кем только тогда не работали женщины! Тетка приносила Ивановне муку – она ездила в какую-то деревню и выменяла там на что-то, потом приносила деньги – и это было уже при Михаське, он готовил тогда уроки с Катькой – и еще много раз приходила, и так ходила всю войну, пока вдруг не исчезла. Ивановна узнала потом: тетка эта, такая неприметная и маленькая, что Михаська никак не мог ее запомнить, умерла от сыпного тифа.
Бабушка Ивановна плакала, и Михаська удивлялся тогда, что это она плачет – ведь эта тетка задавила ее дочь и оставила девчонок круглыми сиротами.
Но Ивановна плакала так, будто потеряла родного человека; она ведь даже в суд ходила, просила, чтоб эту тетку не судили, когда она задавила Катькину и Лизину маму.
«Она ведь тут ни при чем», – говорила Ивановна, хоть у нее и стала трястись голова после этого «ни при чем».
С того времени, как погибла главная кормилица, жить Ивановне и ее девочкам стало совсем плохо. Школа, где учился Михаська, была прикреплена к столовой № 8, и ребятам давали талоны на разовое питание. Но за эти талоны все равно надо было платить. У Ивановны на талоны для Катьки и Лизы денег не хватало, и она брала только для Лизы.
К Михаське, когда он ел, не раз подходили какой-нибудь пацан или девочка и говорили: «Оставь немного». Или просто садились напротив и глядели в тарелку, не оставит ли там Михаська картошину или супчику на дне. Таких ребят было много, их прозвали шакалами из восьмой столовой. Михаська всегда выглядывал в их разноликой толпе Катьку – она тоже считалась шакалкой. Катька стыдилась своего прозвища, стыдилась просить; она просто иногда проходила мимо столов, и если оставался кусочек хлеба или еще что-нибудь, она брала, но никогда не подходила, если человек сидел за столом, и не глядела ему в рот.