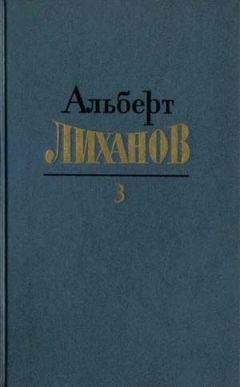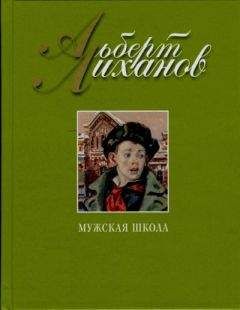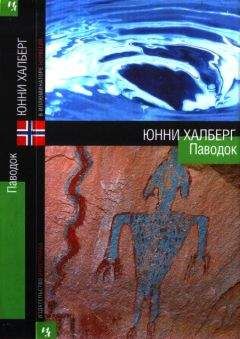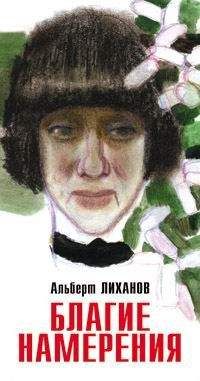— Сегодня нет, — промурлыкала невестка успокоенным, сытым, каким-то кошачьим голосом, — а завтра да!
И столько в этой шуточке слышалось бесстыжей самоуверенности, что я отвернулась, торопясь скрыть боль и слезы.
Бедный Игорек! Он не знал этого, не знал, что появился на свет не как плод любви, а как бытовая необходимость.
Он ушел, многого не поняв юным, еще не склонным к анализу умом, но ощутив — я уверена! — ощутив до самых дальних сердечных глубин собственную ненужность матери и отцу.
Может, я жестока, но разве имею я право быть жалостливой и гуманной сейчас, теперь, после всего, что случилось?
Первоапрельский день оказался границей. Все, что происходило до, касалось лишь меня и сына, и это в худшем случае был обыкновенный стендалевский сюжет: молодой человек — тут девица! — пробивает себе дорогу в жизни. Но в первый день апреля девица замахнулась на святая святых! Сюжет вышел за банальные пределы.
Решалась участь нерожденного человека.
Бога действительно нет, иначе он поразил бы ее в самое сердце, прямо там, на маленькой кухне, в новом, незаселенном доме.
За самый стыдный грех.
Часть вторая
Я очнулась от грохота дверных роликов. Наваждение! На пороге купе стояла голоножка в белом платьице и протягивала мне поднос с чашкой.
— Поздно, поздно! — пробормотала я, с трудом приходя в себя. — Где ж ты была раньше?
— Попейте чаю, — сказала голоножка, — скоро большая станция, может, вызвать врача?
Боже, это проводница, а я в своем двухместном купе, еду домой, к Але, и, значит, все это правда.
Правда, правда!
— Вы поешьте, — говорит проводница, испуганно разглядывая меня. — Вот печенье, хотите, я принесу что-нибудь из ресторана?
Я мотаю головой, наверное, у меня ужасный вид, но мне все равно, все равно, пусть бы она скорее ушла отсюда и оставила меня, я приму еще одну таблетку, хватит одной, и чай кстати — будет чем запить.
— Голубушка, — говорю я и слышу свой голос приглушенным, откуда-то издалека, — вы не волнуйтесь, я просто бесконечно устала, мне надо выспаться, спасибо за чай и, пожалуйста, оставьте меня.
Она отступает к двери, вновь с грохотом откатывает ее, но теперь в другую сторону, и опять все исчезает.
На мгновение проводница стоит в солнечном луче, он просвечивает платье, обрисовывает ладную фигурку, полные ноги, озаряет золотым ореолом светлые волосы.
— Где же ты была раньше, — бормочу я снова, уже громче, и вновь берусь за свою сумочку.
Вот он, мой ридикюльчик, — старинное словечко, вышедшее из употребления, — поношенный, в трещинках, такой же, пожалуй, старый, как я. Милая, милая сумка — мне известна в ней каждая щелочка, каждый уголок, каждая морщинка на коже. Когда-то, уже давно, я относилась к ней как к предмету неодушевленному, но теперь разговариваю с сумкой, спрашиваю ее разные глупости — где тут завалялся валидол, коробочка со снотворным, маленькое зеркальце, платок? Но под руку лезет помада, безвкусно розовая, вовсе не старушечья, фи! Я отшвыриваю тюбик с помадой в угол, оттягиваю резину кармашка, где лежат три крохотные, для паспорта, фотокарточки: Женечки, Саши и Игорька.
Лучше бы этого не делать, слезы снова застилают взгляд, и без того мутный от димедрола, я с треском захлопываю ридикюль и бессмысленно разглядываю его.
Нет, не бессмысленно! Как раз в этом, может, и есть главный смысл. Сумочка и старуха. Даже этой малой малости, даже сумочки не потребуется старухе в том дальнем пути, который соседствует с «нечто». Принимая снотворное, я как бы репетирую предстоящую дорогу, только там не будет воспоминаний. И не понадобится сумочка с димедролом.
Ничего не понадобится.
Тут все равны, никому ничего не понадобится в дорогу, о которой думаю я, только одно — чистая душа, ясная совесть.
Зачем же так бьются люди, изо всех сил стараясь истоптать свою душу? Зачем? Это же совсем нетрудно — сохранить себя, а они стараются сломать. Боже ты мой, зачем?
Я раскрываю сумочку, самое любимое существо после Али. Впрочем, вру. Саша тоже любимый, как бы там ни было. И Женечка, милая моя. И Игорек.
Ждите меня, мои дорогие, скоро, скоро.
Я достаю еще одну таблетку снотворного. Стены купе плывут, наклоняются в сторону, потом переворачиваются и вертятся вокруг незримой оси, и я верчусь в этой карусели под стук вагонных колес…
Проваливаюсь в «нечто».
Сейчас я думаю об Ирине злобно, не могу иначе, но в нашей общей жизни, да и позже я относилась к ней в общем терпимо. Правда, воспоминания о ее поступках равны моему тогдашнему восприятию, но ведь жизнь состоит не из одних поступков. Между ними есть ровная езда, а они как кочки.
В апреле, первого, мы разглядывали ту однокомнатную квартиру, пятого января, как по часам, Ирина родила сына, и через месяц они получили от завода двухкомнатную квартиру, понятное дело, в другом месте, ближе к центру и, значит, ко мне.
Немыслимо жить, каждый час памятуя о неловких фразах и неприятных разговорах, и я охотно перечеркнула злополучные рассуждения на кухне. Заботы о малыше, покупки чудных детских мелочей — все эти погремушки и ползунки! — ежевечернее таинство купания, в котором я стремилась участвовать как можно чаще — Мария оставалась возле Али каждую ночь, — эти хлопоты над Игорем сблизили нас с Ириной.
Я часто любовалась, как она сидит в материнской простоте, с расстегнутой блузкой, кормит Игорька обильной, щедрой данью, такая вся естественная, домашняя, совершенно непохожая на себя, — и мне казалось, все позади, теперь начнется иная жизнь, такая, о какой я мечтала для Саши. В доме должно быть равенство, считала я, а если уж соревнование, то не за то, кто умнее, сильнее, настойчивее, а за то, чтобы побольше уступить другому, скорей простить, глубже понять. Конечно, сказывалась моя собственная неопытность. Когда человек сам не имел полноценной семьи, ему домашние отношения представляются по-книжному, идеально и отстают от правды жизни. Я всегда признавала это своим главным недостатком.
Итак, у меня появился Игорек. Не зря утверждают, будто дедовские чувства сильнее отцовских, а бабкины привязанности сильнее материнских. Свои дети возникают, когда ты молода, у тебя работа, и начинается круговерть, сумасшествие, суета, так что даже не замечаешь, как растут твои дети. А став бабкой, женщина уже возмужала и во внуке видит повторение своего материнства, только на другом уровне, более осмысленном, осознанном, а значит, счастливом.
Я любила Игорька безумно, узнавая в его мордашке черты Саши. Вообще вышел любопытный коктейль, и позже, когда Игорь вытянулся в подростка, лицо его соединило красивость матери и четкие, мужские черты отца, этакий герой — я уверена, девчонки сохли по нему, но он оставался один, никого не подпускал к себе, никому не верил.
Моя любовь к Але, пожалуй, иссушила меня, ибо волей судьбы эта любовь была односторонней, не вызывавшей ответа. Я целовала мою девочку, а она не понимала, что это значит, и плакала, физически став уже вполне взрослой, или смеялась, когда было больно, не понимая, что такое боль.
Я помогала ей одеваться, помогала передвигаться по комнате, мыла вдвоем с Марией, сперва опуская, а потом вынимая ее из ванны и каждую секунду придерживая там. Любовь к Алечке превратилась в терпение и жалость, а маленький пушистый Игорек излучал ответную улыбку, радость при виде своей бабки, ворковал, точно птенец, и как сладки были его первые слюнявые поцелуи и как бессола его чистая слюнка!
Теплый огонек трепетал в моем сердце, невостребованное материнство сладко щемило душу, жертвенность взрослого, готового раскинуть крыло над теплым комочком близкой жизни, вела меня.
За месяцы, пока Ирина была в отпуске, у нас не возникло ни единого разногласия. К ней приезжала мать, а летом она увезла Игорька к родителям. Я обнимала внука со слезами, жалела его — казалось, комары и мухи заедят его там, — и вышло так, что я плакала, провожая Ирину.
Слава богу, думала я.
Вернувшись, невестка в первый же вечер, прямо при мне стала примерять свои старые платья, показав несколько новых моделей, привезенных от матери. Начала она вкрадчиво, тихо вышла, повозилась, бесшумно появилась в темно-синем, которое я подарила Марии, а та отдала ей. Вид получился строгий, на высоких каблуках Ирина выглядела еще выше, но и как-то тоньше, скромней.
— Что скажете, Софья Сергеевна? — спросила она меня, покрутившись перед зеркалом, посмотрела прямо в глаза.
— Хорошо, — покладисто согласилась я, но сердце снова тревожно сжалось: куда моему Саше такую птицу. Но виду не подала, кивнула: Сдержанно и элегантно.
Ирина не улыбнулась, будто моя поддержка ее совершенно не интересовала, и словно назло вышла в красном костюме. Ничего не скажешь, она похудела после родов, девическая припухлость исчезла, тело подобралось, стало взрослее и строже, колени остались такими же, зато грудь заметно пополнела и стала еще привлекательней. Передо мной стояла зрелая, полная сил и земных соков женщина, знающая себе цену.