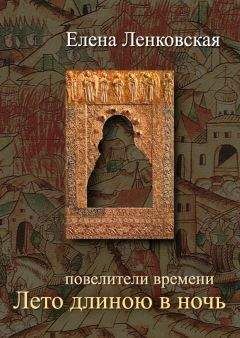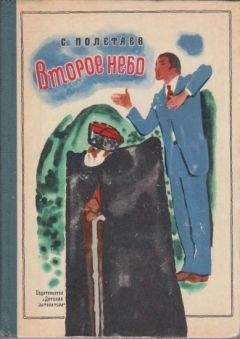Падая с дерева, Глеб не долетел до земли, а каким-то чудом оказался здесь, на Итальянской. Что и говорить, возвращение было неожиданным. Грохот обрушившейся крышки бехштейновского рояля до сих пор стоял у него в ушах. Пчелиные укусы, приземление на рояль… Зверски болело всё тело.
Но он был рад уже тому, что остался жив. И что они с Тоней снова вместе.
* * *
Антонина была рядом. Спала сидя, зябко закутавшись в шерстяной платок, устало привалившись к изголовью его постели. Волосы — растрепались, под глазами — тёмные круги…
Глеб вздохнул. Осторожно, чтобы не разбудить, вынул из оттопыренного кармана её халата телефон, разблокировал одним движением большого пальца. Мобильник тихонько пискнул, засветился. Глеб выбрал в меню пиктограммку «дата», посмотрел на число и тихонько присвистнул. Прошла всего одна ночь?!! Фантастика! А там, в той удивительной жизни, протекло едва ли не целое лето…
Это только на Ямале подобное возможно было — чтоб почти полгода длилась ночь… И — зима кромешная. Не, ну его… Чем полгода зима — лучше лето, пусть и длиною в одну лишь ночь…
Руся разом вспомнил сладкий дух нагретой на солнце земляники, и купание до одури в тихой приветливой Клязьме, и особый вкус колдезной воды, и ночи на сеновале — терпкий, щекочущий в горле запах свежего сена, колкая труха под рубахой, шумные протяжные вздохи хозяйской коровы откуда-то снизу, и звёзды на небе — огромные, похожие на крупицы крупной соли, — видные ему сквозь щели в дощатой стене сенника.
Так неужели и правда это был всего лишь сон?
Можно, конечно, признать всё это плодами его воображения, бредом, сном… Но пчёлы! Они кусались более чем реально! И опух он по-настоящему.
Хотя… Говорят, под влиянием гипноза от простой монетки может возникнуть настоящий волдырь, как от ожога…
Глеб покосился на Тоню, осторожно, чтобы не побеспокоить её, откинул край одеяла, высунул ноги и потёр грязные босые пятки друг об друга. М-да, улёгся с такими ножищами да в чистую постель. Ну, если честно, не до мытья уж тут было.
Хорошо, кстати, что Тоня ничего не заметила, подумал он, пряча немытые пятки обратно. И плохо, что он вчера начал рассказывать ей всё как было на самом деле… Да, зря брякнул, не подумав… Просто очень уж больно было — даже и соображать перестал.
Но Тоня, похоже, не поверила. Смотрела озабоченно, трогала лоб, гладила по волосам. В этом мире в путешествия во времени поверить могут только ненормальные, вроде каких-нибудь уфологов или парапсихологов, которые притворяются, что верят во всякую несуществующую чушь… Но Тоня же не Полумна Лавгуд — с редисками в ушах вместо серёжек.
Однако ноги грязные, это факт. Так что приходится признать: всё было по-настоящему.
А в разговоре с Антониной на этой версии настаивать не стоит. Ещё всерьёз подумает, что он спятил! Учитывая, что здесь прошла всего одна ночь, можно было бы вообще ничего не объяснять. А укусы списать на какую-нибудь внезапную аллергию — мало ли чем он мог объесться…
Ладно, отмажусь как-нибудь, решил он. Скажу — сон приснился…
Часть четвёртая. Вор поневоле
Четвёртый день их петербургских каникул подходил к концу.
Луша в махровом халатике и с полотенцем на плече она стояла у окна гостиной, и глядела сквозь стекло на боковой фасад Шуваловского дворца, который выходил на Итальянскую, как раз напротив их дома. Влажные, только что вымытые волосы её сияли.
— Какие они пыльные, эти бедняги путти… — вздохнув, вдруг сказала она.
Глеб с Русей, развалившиеся на диване, скептически хихикнули. Девчачьей жалости к пыльным амурам они явно не испытывали…
Мальчики, ну что с них возьмёшь… Луша гордо встряхнула мокрой головой, распространяя благоухание. Просто сегодня ей хотелось, чтоб весь мир сиял чистотой вместе с нею!
Мир, надо заметить, не разделял этого желания. На кухне стоял страшный кавардак, и Лушу там поджидали грязные тарелки: сегодня была её очередь мыть посуду. Впрочем, оптимистка Раевская унывать не собиралась. Гора посуды ей явно была нипочём. Тарелки она вымоет в два счёта, вот только волосы подсохнут…
— «Амур скорбел — и ничего другого/ Не оставалось мне, как плакать с ним,/ Когда, найдя, что он невыносим, / Вы отвернулись от него сурово…», — медленно проговорила Тоня, оторвавшись от штопки Глебова дырявого носка и с иронической усмешкой уставившись в окно, на покрытых копотью путти.
— Кто это сказал? — заинтересовалась Лукерья, не прекращая прихорашиваться.
— Это — Петрарка… — ответила Тоня. — Франческо Петрарка, великий итальянский поэт.
— Ой! Это он прям об этих амурах написал? — удивилась Луша.
— Да нет, что ты. Именно этих амуров, что напротив, Петрарка никогда не видел, ведь он жил в 14 веке. А Санкт-Петербургу всего-то триста лет… А писал он о неразделённой любви. Он любил, а его возлюбленная не отвечала ему взаимностью. И он писал и писал сонеты, и посвящал их своей Лауре…
Глеб вдруг поперхнулся леденцом. Скривился, закашлялся и, схватившись за свою «пиху», принялся с какой-то неожиданной, прям-таки неуёмной злостью давить на кнопки.
Луша удивлённо скосила глаза на резко помрачневшего Рублёва.
— А-а, — вдруг вспомнила она, — Тоня, так это его книжка у тебя тут валяется. Ну та, что на итальянском…
Глеб молча, со свирепым выражением лица склонился над «пи-эс-пи», отстреливаясь от скачущих по пятам отвратительных монстров.
— Так его тоже Франческо зовут, как кого-то из твоих знакомых итальянцев? — сообразив, обрадовалась Луша, и в глазах её тут же запрыгали лукавые искорки. — Вот это совпадение!
— Это распространённое в Италии имя, — пробормотала Тоня.
— Ха-ха, по крайней мере у этого Франческо не было ни малейшего шанса, — зло бросил Глеб, казалось бы не слушавший разговор.
— О чём это ты? — карие Лушины глаза уставились на него в упор. — О любви?!
— Вот ещё! Я про этих… — он ткнул пальцем в окно, — про амуров ваших пыльных…
— Наши? — У Луши что-то вдруг сжалось внутри… — Не наши, а ваши, питерские… — нарочито-беззаботно засмеялась она, тщательно скрывая смутное разочарование. И — ушла с независимым видом, встряхивая мокрыми кудрями.
Рублёв только невесело усмехнулся.
Из глубины квартиры зашумел фен. Глеб зыркнул в сторону Тони, и снова мрачно уставился в экран. Тоня озабоченно посмотрела на часы, потом — недовольно — на Глеба с «пихой» в руках, и холодно процедила:
— Та-ак, у тебя ещё пять минут и ты сдаёшь мне эту штуковину. Хватит глаза портить.
Молчание было ей ответом.
Тоня утомлённо провела ладонью по лицу, посмотрела на Глеба, не отрывавшего глаз от экрана, и вздохнула. Ну вот, опять… Снова неизвестно откуда взявшееся отчуждение стеной встаёт между ними…
* * *
Уже совсем стемнело, когда все дети на Итальянской — кроме почти растворившихся в питерских сумерках беспризорных амуров — были выкупаны, высушены и накормлены. На кухне — прибрано, а посуда помыта.
После ужина они собрались в просторной квадратной комнате — кабинете хозяина-музыканта, в которой стоял небольшой, так и называвшийся кабинетным, рояль с полированной, местами выщербленной крышкой. Многочисленные высокие стеллажи, забитые нотами, книгами, альбомами высились вдоль стен. С верхних полок покровительственно глядели на всю компанию бронзовые и мраморные бюсты.
Верхний свет зажигать не стали. Расположились кто с книжкой, кто электронной читалкой на небольшом диванчике под торшером, а Глеб так и прямо на полу…
— Мандаринов хочется… — вдруг произнесла Тоня мечтательно. — Когда я была маленькой, почему-то представляла себе, что мой принц при первой же встрече спросит меня: «Хочешь мандаринов?» Ну и тут же угостит, разумеется…
— Ты любишь мандарины?
— Ещё как! Глеб, кстати, тоже. Мы с ним — мандариновые маньяки. И ещё мне нравится, что с них легко, сама собой кожура сдирается. Даже стихи есть такие «И сама собой сдирается с мандаринов кожура…»
— Стихи??? — переспросил Руся, подсаживаясь к роялю.
— Ну да, был такой поэт Мандельштам. Впрочем, неважно… Как мандарины не любить — они же пахнут праздником — Рождеством, Новым годом. Временем чудес…
— У-у, до времени чудес ещё далеко… Ещё осень… — протянул Руслан, и подкрутив чёрный лаковый табурет, стал наигрывать грустную детскую пьеску под названием «Дождик».
Звучал инструмент превосходно. Прозрачные, немного печальные звуки капали, дрожали, сливались в струйки…
— Тоня, мама сказала, ты в Италию собираешься? Правда?
Музыка прервалась. Долгое испуганное эхо повисло в сумеречной тишине — словно последние капли на мокром после дождя карнизе.
Глеб нахмурился и замер, даже дышать перестал.