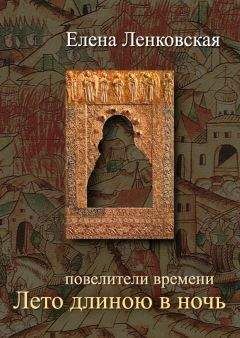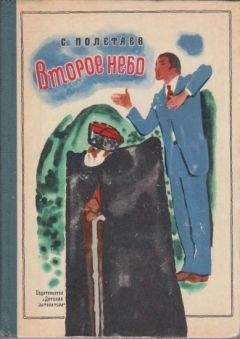Татары ж придя, град взяв, ограбили и сожгли, а людей всех избили и пленили…»
— Так дело было? — оторвался от монитора Руслан, обращаясь к Рублёву.
— Похоже… — понуро ответил тот.
Руся кивнул и продолжил чтение: «Митрополит же был на Святом озере своем у церкви святого Преображения Господня.
И пришла из Владимира весть к Фотию митрополиту: „Вот пришёл во Владимир султан Талыч со многою ратью, да с ним воевода князя Даниила Борисовича Семен Карамышев после твоего ухода на другой день и скоро придут за тобой“.
И Фотий отошёл в леса на озера свои Сенежские в крепкие места.
Татары же не застигли митрополита, и возвратились, и много людей повсюду секли без милости, и стадо градское взяли, и пожгли, и людей побили без числа много, и богатство их взяли…»
Часть шестая. Обратная перспектива
Тем страшным июльским днём конники подошли к разомлевшему, сонному от жары городу тайно, лесными дорогами.
Первыми — с посвистом, с гиканьем — выскочили из леса на заливной луг Талычевы люди. Владимирское городское стадо, пасущееся за Клязьмой, спешили прежде всего захватить.
Тучные пёстрые коровы, испуганно кося глазом и надрывно мыча, сбились кучей. Пастух — немолодой рябой мужик — только завидел верховых, мигом сорвался, погнал коня к реке. Метил — вплавь, через Клязьму, к речным воротам: опередить татар, предупредить своих владимирских. Не успел. Снял его один из ордынцев — прицелился издалека, хладнокровно и уверенно спустил тугую тетиву.
Беглец дёрнулся, соскользнул с лошади, упал в воду с коротким всплеском, да так и остался лежать лицом вниз на Клязьминской отмели с ордынской стрелой в спине, омываемый тихой речной волной…
Босоногие подпаски рванули врассыпную. Старшие — махом перепрыгивая через колдобины, испуганно окликая друг друга срывающимися голосами, младшие — с отчаянным рёвом, кто придерживая ручонками сползающие на бегу портки, кто путаясь в долгополой, на вырост, свитке… Все-все попадали на бегу, — не миновали и юнцов безжалостные татарские стрелы…
Всадники тем временем быстро переправились на другой берег, и словно лавина обрушилась на Владимирский посад. Нападавшие секли и рубили налево и направо, оставляя позади горы трупов. Запалили кровли. По такой-то жаре в считанные минуты занялся посад, целиком выгорел, дотла…
Короткая потасовка у речных ворот, и налётчики уже ворвались в город.
Талыч с Карамышевым мчались на митрополичий двор, гнали во весь опор — скорее, скорее, взять Фотия тёпленьким. Как делить его будут не сговорились заранее, поэтому оба поторапливались.
К досаде своей владыку там не обнаружили: отбыл из Владимира, с вечера уехал в свои угодья на Святом озере.
Разъярённый Талыч, упустив митрополита, которого уже считал своим пленником, глаза совсем сузил, зашипел от злости, хлестанул сообщившего подробности мосластого владимирского мужичка по лицу плёткой, с заплетённым в неё куском свинца. Тот охнул, согнулся пополам, упал на колени, завыл от боли, зажимая ладонью выбитый глаз.
Талыч отвернулся, скрипнул зубами, потом заорал на своих, заругался.
Карамышев невозмутимо выслушал поток ордынской ругани, а когда брань поутихла, присоветовал, процедил сквозь зубы: догонять надо! Попробуй, царевич, авось повезёт.
Отрядили за митрополитом погоню из ордынских.
Карамышев не поехал, и людей своих не послал. Пусть татары сами ищут. А только там места крепкие, непроходимые. Уйдёт, верхом, без поклажи — как пить дать, уйдёт. Есть у митрополита и проводники, и охранники. Спрячут так, что не найдёшь!
Вернее в городе грабежом поживиться…
Более всего и люди Талыча, и головорезы Карамышева рассчитывали на добычу в храмах. Особенно — в Успенском.
Где, как не во Владимирском главном соборе хранятся сокровища. Тонкой работы церковные сосуды, шитые золотом и жемчугом пелены, серебряные, щедро усыпанные каменьями оклады здешних икон. Это вам не посад грабить…
Собор, однако, был заперт изнутри.
Всадники спешились, и всем гуртом принялись долбить ворота длинным бревном, как тараном.
Когда выбили, наконец, окованные железом дубовые створы и, готовые рубить направо и налево, ворвались внутрь, оказалось, в соборе — ни души. Только худой высокий священник, видом гречин — видно из тех, что недавно привёз с собой новый митрополит из Византии — творил одинокую молитву глубине храма.
Отец Патрикий словно не слышал ни гулко отдававшиеся шаги, ни цокот копыт — а это сам Талыч, не церемонясь, въехал в храм прямо на коне, уже покрытом, словно попоной, свежим трофеем — священнической ризой из ценной золотой парчи.
Патрикий стоял на коленях перед здешней святыней, древней иконой Божией матери, несколько веков назад привезённой во Владимир князем Андреем Боголюбским и почитавшуюся чудотворной [11]. Налётчики немедля сбили её наземь, принялись в алчном угаре обдирать тяжёлый — едва ли не в полпуда весом! — золотой оклад. Иерей только простёр к ней руки, но не двинулся с места. Опустил голову на просительно сложенные лодочкой узкие ладони, тихо, по-гречески повторяя слова молитв.
Его хлестанули плетью, раз, другой, пинками сбили наземь. Сорвали с пояса связку ключей в надежде хорошо поживиться церковным добром.
Он был спокоен — самое дорогое спрятано надёжно. Они допытывались, где церковные сокровища. Он молчал.
Его рывком подняли, прикрутили стоймя к деревянной доске — видно, чтоб не дёргался и не вырывался во время пытки. Он и не рвался, не стонал, когда били плетью — а били умело, с оттягом. Он висел на впивающихся в тело верёвках, сосредоточенно опустив глаза, словно не слыша требующих у него признания ярящихся, брызжущих слюной ордынцев.
Когда вбивали щепу под ногти — тогда только не выдержал, закричал каким-то запредельно высоким, жалобным голосом.
Крик его услышали — там, наверху. На церковных полатях в ужасе замерли те, кого грек успел спрятать от татар.
Глухонемая девочка, до той поры тихонько сидевшая среди взрослых, неловко поджав под себя колени, переменилась в лице. Словно и она — услышала…
Раскачиваясь и мыча, как от нестерпимой боли, девочка сдавила руками уши. Сухие стариковские ладони тут же обхватили её, крепко притиснули к себе — чтобы её стон не выдал их всех, чтоб не был услышали татары — там, внизу.
Крик взлетал до полатей, прерывался, потом повторялся — снова и снова.
Скорбно выпрямившись, будто окаменев, сидящий подле старик держал немую, крепко зажимая ладонью её горестно мычащий рот.
А грек всё кричал и кричал.
Немая уже не билась, и не рвалась из рук. Только плакала — вздрагивая всем телом, и слёзы текли по её худым щекам, застревая между морщинистыми, узловатыми пальцами старца…
* * *
Патрикию тем временем стало казаться, что он бродит по улочкам родной Монемвасии. Нет, не то… Он будто увидел её с высоты птичьего полёта — прекрасный город на неприступной скале посреди сияющего полуденного моря.
Вслед за тем явился ему отрок, и он говорил с ним, говорил, пока снова не впал в беспамятство…
* * *
Потом стало горячо — невыносимо горячо, и тошнотворно запахло горелым мясом. Прямо под сводами храма его жгли на раскалённой сковороде.
Он уже ничего почти не чувствовал, ничего не понимал… Ещё несколько раз он приходил в себя, облитый с размаху холодной водой, и, так и не ответив надвигающемуся прямо в упор, дикому, лоснящемуся от пота, перекошенному злобой лицу истязателя, снова терял сознание.
Он не помнил, как его выволокли из храма на двор. Как прокололи лодыжки, меж сухожилием и костью — так прорезают ноги у освежеванной туши, чтобы подвесить ее на крюк. Как привязали его за ноги к кобыльему хвосту. Как пустили лошадь вскачь по кругу…
Последнее, что он увидел, когда с запрокинутой головой уже волочился по горячей, залитой кровью дорожной пыли — вылинявшую от жары синеву неяркого владимирского неба.
А потом прямо в его разбитое, окровавленное, когда-то такое красивое лицо иконописного праведника спикировал сверху чёрный жирный слепень.
Но в этот момент глаза Патрикия увидели уже совсем другое небо — тёмно-синее, бездонное, словно мерцающее золотом небо раннехристианских мозаик…
* * *
…Над городом полыхало пламя. Кругом валялись мёртвые тела — без числа, без счёта: разбойники секли людей без милости. Награбив столько, что не унести, свалили тяжёлое добро наземь и запаливали, «яко сенные кучи», поставы сукна и атласной парчи, тафты, бархата, иноземных шелков. Брали только золото, серебро, да драгоценные ризы, а деньги делили меж собою без счёта — мерками.