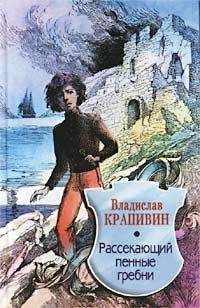Самое скверное, что ветры ни на час не стихали. Днем и ночью тонко звенели в доме стекла, хотя мама и Анка заклеили все щели.
Мама похудела – от всяких мыслей об отце и от этой вот безысходной стужи (так, по крайней мере, казалось Оське).
Вечером подойдешь к окну, а за ним – темень и свист. Небо, вроде бы, безоблачное, но звезды в нем тусклые, как старые канцелярские кнопки…
Анна Матвеевна слушала Оську и соглашалась. Да, есть от чего захандрить.
– Но есть, Ос е нька, и средство от такой унылости.
– Какое?
– Дневник… Да нет, не школьный с отметками, а личный. Со всякими записями. Хочешь, подарю тебе толстую тетрадку? Будешь записывать в нее все хорошее, что вспомнится. Мысли и впечатления. И события. Это очень помогает навести в душе порядок.
Оська подумал.
– Ладно… Спасибо.
Тетрадка оказалась в клеенчатой, зеленовато-голубой с волнистыми разводами корочке. Наверно, она была из старых времен, из молодых лет Анны Матвеевны. Так нравилось думать Оське. Впрочем, листы были обыкновенные, в клеточку.
Вечером Оська сел с тетрадкой у лампы.
– Уроки готовишь? – с удовольствием сказала мама.
– М-м, гм… – Это можно было понимать как угодно.
Для “прогоняния” унылости и согревания души надо было написать что-нибудь про лето. Но летом Оська был неразлучен с Эдиком. И всякая страница хранила бы печаль прерванной дружбы.
“Да нет у меня никакой печали!”
“Хоть самому себе-то не ври!”
“Я не вру!”
“Тогда пиши”.
“Не хочется почему-то…”
Надо было бы рассказать в дневнике и про Норика. Про Николу-на-Цепях, про Сильвера. Но Оська боялся. Ведь пришлось бы писать, как лезли по Цепи. А вдруг мама или Анка найдут дневник и прочитают? Вот шум-то будет!.. Но это не главная причина. Главной было суеверное опасение. Оське чудилось, что если все это доверит он бумаге, то словно попрощается с Нориком. И тогда они уж точно больше не встретятся. А пока надежда на встречу все-таки жила.
О чем же писать-то? И не стал Оська прятаться от печали.
Он горько и честно рассказал в дневнике про гаражи, про свою заметку в газете (даже вклеил ее в тетрадь) и про то, как все кончилось с Тюриным.
Ну а после записывал всякие отдельные случаи – что было, что видел, что вспомнилось. Не по порядку, а как придет в голову.
Однажды Анна Матвеевна спросила:
– Ну, Ос е нька, что с моей тетрадкой? Небось, лежит чистенькая?
Оська похвастался, что записал уже двадцать две страницы.
Ховрин был здесь же. И сразу навострил уши.
– Что за страницы?
– Да так, пустяки всякие…
– Дай почитать! Я же во какой любопытный!.. Или там сердечные дела?
– Да ничего там сердечного!
Тогда Ховрин пристал: “покажи” да “покажи”. Оська мялся и упирался.
– В тебе нет ни капельки благородства, Оскар Чалка! Это даже непорядочно! Я же тебе показывал свои черновики!
Это была правда. Ховрин давал ему почитать наброски повести про свои студенческие годы: как он с третьекурсниками-историками был на раскопках древнегреческих развалин, как они там откопали гончарную мастерскую, как пели по вечерам под гитару, а звезды купались (просто бултыхались!) в темном море. И как он, Яша Ховрин, слегка влюбился в маленькую смуглую Свету Селенчук. А главное – как пришло ощущение, что он не просто Ховрин, а частичка громадной жизни. И что он связан со множеством людей. Даже с той семьей гончара, что жила в древнем городе две тысячи лет назад…
Оське понравилось. И он тогда сказал сердито:
– А почему вы это не дописали?
– Как-то все не мог собраться. А потом стало казаться, что чушь…
– Никакая не чушь. Наоборот!
– Может, ты и прав. Надо будет перечитать…
И сейчас Оська понял, что никуда не денешься, долги надо платить. На следующий день принес тетрадь и, сопя от неловкости, сунул Ховрину.
Ховрин внимательно прочитал все страницы (Оська вздыхал и томился). Ховрин мизинцем поскреб шрам на вмятой щеке.
– Кое-что можно было бы чуть поправить и напечатать…
– Что? – перепугался Оська.
– Да вот, хотя бы самое начало. Лирическая публицистика, если можно так выразиться. “Вот так и закончилась дружба,,,”
– Ой, я не хочу про это!
– Видишь ли… ты не хочешь, а многих людей эти строчки заставят вздохнуть и задуматься. Можно ведь убрать из текста имена и лишние узнаваемые детали. Главное тут – настроение. Это будет не частный случай, а, так сказать, обобщение…
Ховрин умел уговаривать.
Заметку (или как это еще называется?) напечатали через неделю. Начиналась она словами “Был у меня друг, настоящий…” А кончалась так: “Теперь уже ничего нельзя изменить. Тут даже бесполезно сравнивать, кто больше виноват. Просто мы оба оказались разные, только сначала про это не знали. Будто долго шли по одной дороге, и вдруг развилка…”
В классе Оську почему-то не поддразнивали, даже ничего не говорили. Только поглядывали с пониманием. А Тюрин… он даже и не поглядывал. Просто держался так, будто никакого Оскара Чалки нет и никогда не было на свете.
А потом поместили в “Посейдоне” еще одну Оськину заметку. Над заголовком было написано: “Странички из дневника”. А название – “Мурка и горький лед”. Конечно Ховрин кое-что поправил, вычеркнул, расставил абзацы. Но в общем-то осталось все почти так, как в тетради.
“Наш город совсем заледенел, будто его злой волшебник перенес в другое пространство, в антарктическое какое-то. Всюду ледяная кора и сосульки-сталактиты. И обидно, что даже сосать их нельзя – сплошная соль и горечь.
На нашей улице есть старинный дом, у него в фундаменте углубления, будто пещерки. Там раньше были подвальные окошки, а потом их замуровали.
Однажды я иду мимо этого дома из школы, а у фундамента сидят на корточках три первоклассника: Павлик, Тарасик и Дима. Три друга. Сидят и спорят и что-то копают. Я подошел. Оказалось, что одну квадратную пещерку сплошь перекрыли сосульки – будто толстенной ледяной решеткой. А за этой решеткой мяукает кошка. Как она туда попала? Она уже еле слышно мяукала, словно была без сил.
Павлик, Тарасик и Дима старались выломать сосульки, но те были могучие. Я говорю:
– Что вы такие несообразительные! Надо палкой, как рычагом!
Они обрадовались, побежали, нашли обрезок железной трубы, разбомбили лед. Дима вытащил кошку. У нее на усах были застывшие капли и между пальцами ледышки. Дима поскорей засунул ее под куртку и сказал:
– Мурка, Мурка, сейчас пойдем ко мне домой, к бабушке.
Я спросил:
– А бабушка тебя не выгонит с бродячей кошкой?
Он даже обиделся:
– У меня бабушка не злодейка, а наоборот.
И они убежали.
Назавтра я повстречал их в школе.
– Дима, как там Мурка?
Дима сказал, что она ожила. Сегодня угнала от бабушки клубок шерсти и гоняла по всей квартире. Но бабушка не сердилась.
– А мы ей рыбок жареных принесли, – сказали Павлик и Тарасик.
Хорошие они люди, эти три друга. И бабушка у Димы хорошая. И Мурка тоже…”
И снова стояла подпись: “Оскар Чалка, пятиклассник”.
В классе два балбеса – Гошка Плюх и Юзька Заноза – при виде Оськи запели известную дурацкую песенку: “Жила на свете кошка Мурочка, не зная никаких забот…” Оська спокойно прошел мимо.
Анка смотрела на Оську с нескрываемым уважением. Мама им гордилась, показывала газеты соседкам и на работе. Ховрин вскоре сказал:
– Завтра возьми свидетельство о рождении и приходи в редакцию. Получишь гонорар за свои труды.
– Гоно… что?
– Деньги, святая ты невинность…
– Разве за это платят? – удивился Оська.
– А как же! Это твоя работа.
– За прошлые разы не платили…
– Вот теперь за все и получишь.
Деньги оказались небольшие. Хватило на две бутылки фанты да на две шоколадки – маме и Анке. Но все же – первый в жизни заработок!
Когда Оська (вместе с Ховриным, конечно) пришел его получать, у окошечка кассы стояли несколько человек. Ховрин представил Оську главной редакторше: толстой, басовитой и черноволосой даме:
– Оксана Дмитриевна, это и есть Оскар Чалка.
– Рада познакомиться, коллега. Пишите дальше.
Уже дома у Ховрина Оська спросил:
– А почему она сказала “коллега”? Я же у вас не работаю.
– Как это не работаешь? Одна заметка – случайность, две – тенденция, три – постоянное сотрудничество. Ты теперь наш нештатный корреспондент… Надо бы тебя окрестить соленой водой в честь бога морей и нашей газеты. Два литра за шиворот…
– Хорошо, что здесь нет соленой…
– Сгодится и пресная. Головой в раковину… Мама, воду сегодня не отключали? Вот и чудесно!
– Ай!..
Развеселившийся Ховрин ухватил Оську поперек туловища и хотел потащить на кухню.