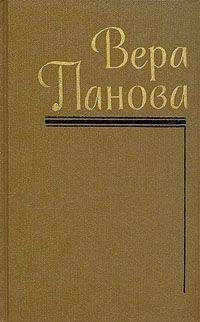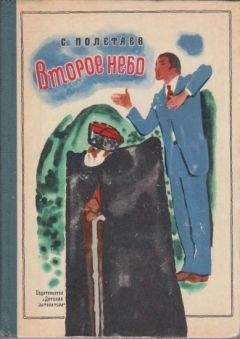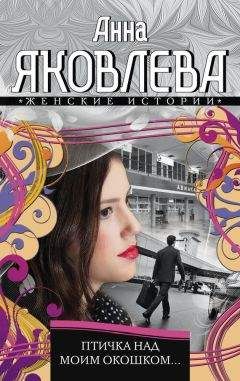— Почему вы должны покинуть город?
— Потому что я не хочу служить времени, идущему назад.
— Что с девушкой?
— Ее побили камнями.
— Черт знает что, — сказал астроном. — Когда я приехал, у вас было не без странностей, но пристойно, многое даже трогательно. Дождусь затмения и ну вас, на другой же день меня здесь не будет. Хорошо, я ее спрячу. От кого надо прятать?
— От всех.
— Хорошо. Если кто-нибудь придет, я спрячу ее в телескоп.
— Надо перевязать ей раны, — сказал Анс.
И они принялись перевязывать раны дурнушке, и лучистая звезда смотрела на них в окно.
На скрещении дорог мать прощалась с Ансом.
— Может, останешься? Может, не уйдешь?
— Нельзя, мать. Людям в глаза совестно будет смотреть.
— Тебе-то почему совестно? Ты не виноват!
— Что ты, не виноват! Часовщик обязан думать о времени. А я только о любви своей думал.
— Пускаешься в странствие — с чем пускаешься? Голые руки, грудь нараспашку.
— Не бойся. Я поумнел зато. Что-то в мозгах щелкнуло, и я поумнел. Собственными ушами слышал, как оно щелкнуло.
На четыре стороны света простерлись дороги. Длинные, за горизонт. Густел серый вечер.
Анс простился, поправил рюкзак на спине и пошел скорым шагом.
Несколько раз оглядывался, чтобы помахать матери рукой, и видел ее, стоящую неподвижно, и за нею город с первыми вечерними огоньками.
— Прощай, мой город! — сказал Анс.
Пошел дальше и увидел пешехода, идущего в том же направлении с рюкзаком на спине.
— Вот хорошо, — сказал Анс, — с попутчиком веселей.
— Это вы, Дубль Ве? — вскричал он, нагнав пешехода. — Каким образом я вас здесь встречаю?
— Они изгнали меня из города, — сказал Дубль Ве. — Гун и его пиджаки. Безумцы, изгнали старательного работника, желавшего добра и порядка! Хотели отрубить мне голову, но министры уговорили их этого не делать, опасаясь волнения в массах. Несомненно, многие обо мне пожалели бы — не о моей персоне, разумеется, а о добре и порядке. Хотя массы очень опустились с тех пор, как время пошло назад.
— Боюсь, — сказал Анс, — что большинство способно только бросаться камнями из подворотен, когда поблизости нет рыжих пиджаков.
— Увы, скорей всего это так. Эпидемия безумия охватывает квартал за кварталом. Формы болезни многоразличны, она свирепей чумы и черной оспы.
— Безумие ли это? Или малодушие? Или злоба? Или стяжательство?
— А разве стяжательство не безумие? — возразил Дубль Ве. — Разве злоба не безумие? Нормален тот, чья душа не взбаламучена этими пороками. Злосчастный Гун делает зло, подхлестываемый безумием.
Они оглянулись, но уже не было видно города.
— Не отдохнем ли мы? — спросил Дубль Ве. — Я иду с утра и порядком устал.
И они улеглись в стороне от дороги, подложив рюкзаки под головы. Божьи коровки ползали по ним, и трава дышала в лицо.
— Вы спите? — спросил Дубль Ве среди ночи.
— Нет.
— О чем вы думаете?
— О нашем городе.
— Я тоже, — сказал Дубль Ве. — Однако постараемся заснуть, нам предстоит нелегкое странствие.
Но сон не шел к ним, они пролежали до утра, ворочаясь и вздыхая.
И так же прошла вторая их ночь, которую они тоже проводили под открытым небом, уйдя далеко за горизонт. То и дело один другого спрашивал:
— Спите?
— Нет.
— О чем думаете?
— О нашем городе.
А на третью ночь, когда они находились еще дальше, Дубль Ве сказал:
— Поражаюсь, как я мог его оставить на произвол безумцев.
— Я не могу себе этого простить, — сказал Анс.
— Это вирус безумия проник в меня, — сказал Дубль Ве.
— С моей стороны двойное безумие, — сказал Анс. — Я часовщик.
— Мало ли что выслали. А мы вернемся потихоньку и посмотрим, что можно сделать.
— Я еще немножко поумнел, — сказал Анс. — Моя дорога — туда, теперь я вижу.
Они отряхнули с одежды налипшие былинки и божьих коровок и пустились в обратный путь.
Мастер Григсгаген уходит на пенсию
Он работал на своем месте. На месте Анса сидел новый помощник.
По-прежнему в мастерской на разные лады тикали часы, но теперь они шли назад. Они с таким же рвением улепетывали назад, как когда-то стремились вперед.
Вставив в глаз увеличительное стекло, орудуя шильцем, мастер наставлял нового помощника:
— Раз уж вам выпало счастье работать со мной, используйте это преимущество, глядите, учитесь. Кто такие даже первоклассные часовщики, все эти гангмахеры, штейнфассеры, демонтеры, репассеры и прочие? Хорошие, да, отличные, да, вполне уважаемые специалисты. Я же сделаю из вас художника. Вы сможете выполнять техническую работу и создавать новые конструкции, вне всяких канонов и эталонов. Для часовщика-художника эталоны не существуют, он работает по наитию свыше. Вы спросите: а каждый ли доступен наитию свыше? (Помощник не спрашивал.) Если будете прислушиваться к моим указаниям…
Помощник не прислушивался. Он глядел в окно, где через улицу к мастерской в сопровождении рыжих пиджаков шел Гун.
Мастер сквозь увеличительное стекло посмотрел туда же.
Увеличенный в двадцать раз, Гун был великаном. О пуговицы жилета, увеличенные в двадцать раз! О брови — черные тучи! Ботинки номер восемьсот надвигались как танки.
Танки прошагали в мастерскую.
Помощник вскочил и прокричал:
— Эники-беники!
— Ели вареники! — возгласили, вваливаясь за Гуном, рыжие пиджаки.
— У вас уютно, мастер, — сказал Гун. — Ловко вы тут окопались. Ну, как прыгаете?
— Прыгаете, га-га-га! — загоготали пиджаки. — Прыгаете, го-го-го, ну и остроумен же, эники-беники!
Мастер вынул увеличительное стекло из глаза. Сразу Гун стал маленьким. Ботинки сорокового размера. Пуговицы на жилете черные, с четырьмя дырочками, в любой галантерейной лавке продаются за копейки.
— Выглядит отвратно, — сказал Гун пиджакам. — Годишки дают себя знать.
— Годишки, годишки! — залотошили пиджаки. — В самый корень смотрит Гун! Годишки дают себя знать.
— На пенсию пора, — сказал Гун.
— На пенсию, на пенсию! — заголосили пиджаки.
— Позвольте! — сказал мастер. — Почему на пенсию? Разве я хуже стал работать?.. Что это? — спросил он вслед за тем. — Это мой голос так беспомощно дребезжит? У меня трясенье под коленками? Но ведь без увеличительного стекла он ничтожество, и пуговицы его ничтожные, и эти парни в пиджаках ничтожные. Я покажу им их место. Уймись, трясенье под коленками!
И он сказал с достоинством:
— Те, кому надлежало бы помнить, уже забыли, по-видимому, что время назад пустил я и никто другой.
— Да! — воскликнул Гун. — Да, хи-хи-хи! Вот вы какой часовщик, свет таких не видал! И так же спокойненько можете пустить его вперед, если вам вздумается, а, хи-хи-хи?
Он погрозил пальцем у мастера перед носом.
— Знаю я вас!
— Он меня боится, — сказал мастер, отпрянув. — Я его, он меня. Я боюсь пиджаков, он боится моего умения.
— Почтеннейший мастер! — сказал Гун. — Довольно вам сидеть в этой дурацкой мастерской и копаться в этих дурацких часах. Пора пожить в покое и холе. Будет вам покой, будет и холя. Я, я, я назначаю вам неслыханную пенсию!
Пиджаки:
— Ух ты! Ну, рванул старик! Пофартило! Мне бы! Эники! Беники!
— Ели вареники! — грянуло с улицы.
Там шеренгами стояли часовщики — гангмахеры, штейнфассеры, демонтеры, репассеры и прочие. Они были в парадных костюмах и держали свои шляпы в руках. Впереди стояла разряженная госпожа Цеде с серебряным кофейником, украшенным монограммой.
— Проводить вас пришли дружки ваши, — сказал Гун.
— Но я не хочу на пенсию!
— Ну-ну. Слыхали — неслыханная.
— И неслыханную не хочу!
— Давай-давай по-хорошему! — сказал Гун. — Собирай манатки, и пошли.
— Но кто же, — возопил мастер, — будет осматривать городские часы четыре раза в год?
— Я буду осматривать! — крикнул Гун. — Я, я, я!
Рыжие пиджаки придвинулись и стали кружком, выпячивая ватные груди.
Дрожащими руками мастер уложил инструменты в чемоданчик.
— Я не могу так оставить мастерскую! — сказал он. — Тут ценности! Нужно сделать инвентаризацию и составить акт.
— Какая там инвентаризация, — сказал Гун, — все очень просто: раз, два, три — и нет никаких ценностей.
Пиджаки расступились, и мастер увидел.
Все часы лежали кучей на полу. В том числе драгоценные, неповторимые.
Один пиджак сдирал со стенки часы с начищенным медным маятником, чтобы бросить в общую кучу. Другой пиджак снял с гвоздя плащ мастера Григсгагена и держал наготове.
— Ну что ж, — сказал мастер, — коли так, я уйду. Коли так, буду жить в покое и холе. В конце концов, холя и покой — это должно быть полезно для молодения.