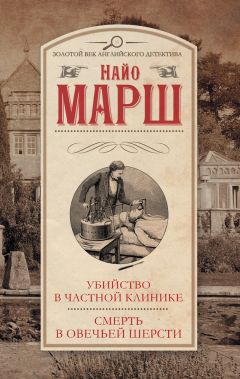— Сдох? — крикнул со злорадной гримасой на всю улицу и махнул в сторону степей. — Туда его надо бы-ло! Под пули! И тебя за им. Чтоб знал, кого на свет произвел, п-падла!..
И лежат они в разных уголках — у одного высокий памятник со звездой и цветным фото за стеклом, у другого… Э-эх… Илье и сходить, сына попроведовать стыдно.
7
На заправке пыхтел одинокий автобус. Белые облачка его чахоточного дыхания выпрыгивали из вы-хлопной трубы; тут же ветер подхватывал их и разрывал.
Илья сбросил скорость, развернулся на голубом, подсвеченном инеем асфальте и пристроился за авто-бусом. Бросил взгляд на щиток, достал из прошитого суровыми нитками мятого бумажника талоны, и, шаркая сапогами, побрел к окошечку.
— Здравствуй, Зина! — уже въевшимся в него виноватым голосом поприветствовал.
Зина кивнула из-за стекла, беззвучно пошевелила губами и прищурилась. — Сдал Илья, ой как сдал.
Он криво усмехнулся, угадав ее мысли.
"Что я, девка, за красотой своей следить? Или жених? Какой есть, такой есть".
Заправился, выехал на большак и расслабился.
— Теперь до города без остановок, — пообещал себе, но, подумав, поправился, — если ничего не случит-ся. Рейс-то короткий. Часок с небольшим.
… После школы он год ходил учеником автослесаря, а вечерами занимался от военкомата на шофер-ских курсах. Машина в те годы влекла не меньше, чем сейчас влечет молодых громкая музыка. И не меньше, чем в довоенное время авиация.
За баранкой прошла вся его служба. Автомат за три года раз в руках держал — присягу принимал. А так — гражданка и только. Разве что форма с погонами, но форме больше подходило название — спецовка, — так она была напитана запахами бензина и масел, так застирана до белесых полосок на швах. И не выучился Илья ни маршировать в строю, ни честь отдать по-уставному. Возил продукты и солдат на полевые заня-тия, спал, пока они бегали по пересеченной местности или стреляли; лето и осень безвылазно на сель-ских работах. Еще не научился он искать причины, устраивать себе передышки. Проще и понятнее было просто работать, включиться в не им установленный ритм, не копаться в непонятном, лишая себя равнове-сия на шатком мостике жизни. И улетали похожие как степные километры солдатские дни: машина, под машиной, короткий сон, и опять: машина, под машиной, короткий сон.
На последнем году службы вспомнили о нем — дали отпуск.
Поехал Илья на побывку.
Только в дороге почувствовал — сердце не находило покоя, то замирало, то рвалось бешеными толчка-ми из груди, — как долго он не был дома. И неловкость — писем почти не писал. Сам себя уверил — нет вре-мени. А оно было, и нет Илье оправдания.
Радостное возбуждение улицы разливалось песней.
На побывку едет…
И пусть Илья не был моряком, — всего лишь пехота, — песня касалась всех, кто служит. Не беда, что не про него. Придумают другие слова, другую музыку и споют. А пока:
… молодой моряк,
Грудь его в медалях, ленты в якорях.
Словно заглаживая вину свою, или наскучившись по иной работе, перевернул весь двор, — подновил, подлатал; одних дров в поленицах наготовил на две зимы вперед, благо, отец в извозе робил, недостатка в дровах не знал.
Здесь. в отпуске, и не изнутри, а по отношению к нему земляков, увидел он себя взрослым, не отго-роженным от их больших и малых забот, равным им, допущенным в их серьезную жизнь. И это была не реализованная мечта скорее стать большим, довлеющая над нами в детстве и юности; это была вызре-вающая ответственность не только за себя, мысли не только о своем, маленьком, но и о чем-то неохват-ном и еще не понятом Ильей. И в этом непонятом, где у каждого есть свое, им одним занятое место, и ему, Илье Мохову, предстояло утвердиться. Его допустили, приняли авансом и замерли в ожидании — каким станет?
Мать гнула свою линию, с женской хитринкой капала на мозги.
— Ты, Илюша, отдохни, погуляй. Чать наскучался. На танцы бы сходил, девок наших поглядел.
— Чего на них глядеть? — отмахивался Илья. — Не картины.
Мать терялась от такого ответа.
— Как это чего? В твои года все смотрят, — не находила другого объяснения. Она давала Илье неболь-шую передышку и опять за свое.
Он вроде и не слушал, а и слушал, так с улыбочкой и шутками.
Весна была такой же дружной, как нонешняя. Она ли сказалась, нашептывания ли матери, только вдруг заметил — рядом царица живет. Хотя, какая она царица? Просто, Аня. Нет, Анечка! Как он раньше не обращал внимания? Что-то в нем перевернулось. Стали нужны ее улыбка, глаза, пожатие руки — легкое и короткое, и незапоминающиеся слова. Неужели это так бывает?
Теплыми вечерами долго гуляли по задворкам и в тополиной купеческой аллее; сидели на ошкуренных бревнах у реки, согревая друг друга; радовались тихому счастью:
— Неужели ты меня заметила?
Взгляд в землю и шепотом:
— Заметила… Давно заметила.
И сквозь громкое биение сердца:
— Я что, тебе… да?
— Угу…
На десятый день его отпуска справили скромненькую свадебку.
— Вернешься, догуляем, — пообещали родные.
Здесь впервые поцеловались, впервые и надолго поверили сердцам, доверились и стали самыми близ-кими людьми на свете.
Утром он возвращался в часть.
Аннушка вцепилась обеими руками в его локоть — не оторвешь, светилась вся и целовала в губы, не стесняясь никого вокруг. И только судорожно сжатые пальцы выдавали ее. И он не видел никого и ничего, кроме кричащих глаз.
Расставался с ней одной, доверчивой и счастливой и расставание это показалось Илье легким и корот-ким, как пожатие Аннушки. Такой он и вспоминал ее весь оставшийся год: кричащие глаза и горячие сладкие поцелуи.
А она проводила мужа и, едва скрылся за домами автобус, обмякла и разрыдалась, словно уехал он на войну и теперь, сколько не жди, не вернется к ней никогда. Она внушала себе эту жестокую мысль, не зная толком — для чего? Какой-то древний инстинкт срабатывал: провожать и готовить себя к худшему, всем существом противиться даже мысли о нем и вместе с тем неотступно ожидать его, наслаждаясь этим самоистязанием. Или это предохранительный инстинкт — заглушать боль разбуженной души и тела, приту-пить неостановимую силу желания.
Илья вернулся. Сашеньке шел четвертый месяц.
Приехал в город к ночи, когда опустели дороги и народ, изработанный у огня, забылся в изнеможении под отдаленный грохот завода. Вышел на старом вокзале, на левом берегу, и сорок восемь километров прошагал на одном дыхании, — не было сил дожидаться утреннего рейса.
Две радости всколыхнули дом. Так и совместились они в памяти.
— А помнишь, ты приехал, когда Гагарин полетел?
И этот день стал отправной точкой их долгой дороги: своей, неукатанной, целинной, по которой проби-рались они на ощупь, тихим ходом, — не угодить в яму, не наскочить на скрытый пень. Пробирались среди таких же "целинников", щедро пользуясь правом на ошибки.
8
— Ну вот, размечтался… Без остановок, — упрекнул себя Илья, пристраиваясь на обочине. Нехотя, с ус-талой медлительностью полез в карман за документами.
Молоденький сержант подбежал к машине, козырнул.
Илья протянул ему через спущенное стекло бумаги.
— Нет, нет — запротестовал сержант и, смущаясь, объяснил. — Я не за этим… — Он понизил голос и почти заговорщески, а более умоляя, попросил. — Возьмите попутчицу до города.
Только теперь Илья вспомнил — рядом с сержантом стояла женщина. Он ее подсознательно зафиксиро-вал: пожилая; валенки с калошами; неопределенного цвета старинное плюшевое пальто с большим ци-гейковым воротником; шаль; какая-то сумка, — шоферская привычка фиксировать в тайниках памяти все вокруг дороги, не утруждая глаза разглядыванием деталей, но и не упуская ничего. И еще, тоже по при-вычке, безошибочно определил: — Новенький, еще просит. — Уже о сержанте.
Илье не хотелось отказывать этому застенчивому пареньку, не уяснившему пока магического действия серой формы, когда и самая безобид
ная просьба воспринимается как приказ, не терпящий возражений.
— Я бы с удовольствием, — подавляя раздражение за вынужденную остановку, извинился он и кивнул назад, на кузов, забитый дорогим товаром, — но… ты видишь, какой груз у меня?
Сержант понял, что ему отказали, и вовсе растерялся. Надо бы уйти, но уйти, не сказав каких-то слов, он не мог. А слова потерялись. Он попытался отыскать их, сказать водителю и загладить неловкость.
Илья тоже чувствовал неловкость. Ему требовалось оправдаться. Почему? Да не виноват перед ним этот паренек, с любой стороны не виноват: ни тем, что остановил — нужда заставила; ни тем, что в форме, и к форме его доверия нет — не им порастрачено; он, может, затем и надел ее, что мечтает доверие это вернуть, знает, что непросто сделать это, знает, что поважней его старались и настарались. Многих повы-гоняли — а всех ли? Ложку дегтя поднатужься — и уберешь. А запашок долго не выветрится.