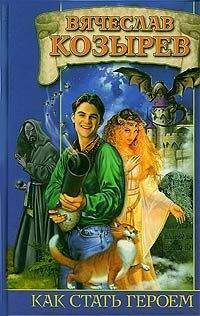Здорово! — крикнул ему Федотка сверху.
...орова, — отозвался щенок из колодца и ушами мотнул, а вода как была спокойная, так и не шелохнулась даже.
Любопытно стало Федотке, и захотелось ему поближе к щенку присмотреться. Свесился он над колодцем пониже, и тут то ли подтолкнул его сзади кто, то ли еще почему, но только шагнул Федотка вперед, сказал самому себе: «Ну, Федотушка, будь здоров», — и полетел в колодец.
Двадцать четыре метра летел до воды, но не разбился, дыхание только перехватило от страха. Леп-леп-леп — лапками по воде, взобрался на приступку в углу, поднял голову, смотрит: далеко вверху — голубым квадратиком небо.
«Эх, — думает Федотка, — чуть было в воспоминания не угодил. Это как же я теперь отсюда выберусь?»
Смотрит — бадья сверху спускается, бабушка это Степанида за водой пришла.
«Ну, — думает Федотка, — теперь я спасен».
Подтащил к себе бадью, сел в нее и поехал наверх. Едет, доски считает, улыбается: будет теперь о чем собакам на деревне рассказывать.
А бабушка вертит себе и вертит ручку колодца, вертит и вертит, а потом глянула, а он — сидит! И дрогнуло у бабушки в груди старенькое сердце — водяной!
Взвизгнула она и зарысила от колодца к дому, а Федотка — у-у! — поехал в бадье вниз и — ульк! — искупался еще раз. Выбрался опять на приступку в углу. Сидит, обтекает. Слышит: дед Григорий, муж бабушки Степаниды, к колодцу прихромал. Прикрылся ладонями, чтобы видеть получше, долго вниз глядит. Федотка далее в угол вжался, чтобы дед не увидел его, и когда поехала вверх бадья, не сел в нее: дед не бабка, испугаться не испугается, а по шее нахлопает. А кому же это хочется в летний жаркий день на виду у всей деревни по шее схлопотать?
Слышит Федотка, как там, наверху, перелил дед из бадьи в ведро воду, выругался:
О, прибежала, старая: водяной, водяной в нашем колодце объявился. Сама ты водяной в юбке!
И похромал к дому, а Федотка в колодце остался. Сидел, ночи дожидался: днем далеко видно, увидят — сидит
он в бадье и — у-у-у! — поезжай опять в колодец. А день- то вон только начался, до вечера сколько раз съездить можно! Пожалуй, доездишься до того, что и ехать наверх некому будет.
Сидел Федотка в колодце, поскуливал, ребрышками подрагивал, ночи дожидался. В полночь пришла с фермы тетка Лукерья. Хватилась, а воды нет, за ведро она — и к колодцу. И Федотка решил попытать счастья. Сел в бадью, погрузился в жуткую холодную воду, весь погрузился, одни ноздри сверху остались. Сидит, дышит, а когда стал подъезжать кверху, совсем затонул.
Смело взяла тетка Лукерья бадью, смело поставила ее на сруб колодца, а Федотка — буль! — и появился.
Фу, — говорит, — чуть не задохнулся.
И это в двенадцать-то часов ночи!
Охнула тетка Лукерья и не помнит, как у себя на печке оказалась под теплым стеганым одеялом. А Федотка в это время улепетывал от колодца, взматывал длинными не по росту ушами и думал:
«Только бы никто меня не поймал и обратно в колодец не отправил».
Но никто его и не собирался ловить, только долго после этого доставали из колодца муругую Федоткину шерсть и дивились: откуда она взялась там. Да бабушка Степанида ходила по селу и говорила всем:
Водяной в нашем колодце объявился. Вот истинный крест — водяной. Вытащила я бадыо, а он — сидит.
Да тетка Лукерья, никогда ни в какую нечистую силу до этого не веровавшая, в водяного уверовала и тоже ходила по нашему селу и говорила всем:
Верно, есть в нашем колодце водяной. Я его сама видела, вот только поближе не смогла разглядеть какой он из себя. Помню только, что он фыркает и что у него есть уши.
D Гореловской роще, на Маньяшином кургане, жила маленькая серенькая Мышка. И все у нее было: и хитрая норка с отнорками, и зерно в закромах — живи да радуйся, а вот радости-то как раз у Мышки и не было. Жили рядом с нею такие же, как она, маленькие мурашки, маленькие букашки, а Мышке хотелось иметь большого соседа, и чтобы он в гости к ней ходил, и чтобы Мышка к нему в гости ходила.
Ей так хотелось иметь большого соседа, что он ей даже во сне снился: большой, громадный, ворочается в кургане, аж деревья покачиваются. И когда поселился рядом с Мышкой Суслик, обрадовалась Мышка: вот он, большой-то сосед, появился наконец-то.
И в первое же воскресенье прибежала навестить Суслика.
Здравствуй, Суслик. Я Мышка, соседка твоя, в гости пришла к тебе.
Пришла так пришла, — пробурчал Суслик, — к столу проходи, чего у порога-то стоять.
Прошла Мышка. Сходил Суслик в кладовую, принес горсть зерен, высыпал перед ней:
Угощайся, коли пришла.
А много ли Мышке надо? Съела два зернышка и сыта. Закланялась:
А теперь ты ко мне, сосед, приходи. Я ждать буду.
А что? Приду, — сказал Суслик.
И точно: на следующее воскресенье пришел к Мышке в гости. Увидела его Мышка, обрадовалась:
Ой, кого я вижу! Проходи, сосед, к столу, будь гостем.
Прошел Суслик. А Мышка ко двору выбежала, известила всех, счастливая:
Ой, кто ко мне пришел, ко мне Суслик пришел! Мой большой сосед у меня в гостях сидит.
А сама к закрому сбегала, принесла горсть зерен, высыпала перед Сусликом.
Угощайся, сосед, кушай на здоровье.
Мышке дня бы на три хватило, а Суслик — чаф-чаф! — съел и сидит глядит, что дальше будет. Сбегала Мышка еще к закрому, еще две горсти зерен принесла. Ей с лихвой на неделю хватило бы, а Суслик — чаф-чаф! — съел и сидит глядит, что дальше будет.
Видит Мышка такое дело, смутилась. Всегда такой щебетуньей была, а тут чуть выговорила:
Что ж ты у пустого стола-то сидеть будешь? Пойдем прямо к закрому.
Привела его в кладовку, угощает:
Угощайся, пожалуйста, не стесняйся.
А чего Суслику стесняться? Он в гостях, он не воровать пришел. Он как сел, так пол закрома и съел.
«Ого,—ужаснулась Мышка, — мне нужно месяц есть, чтобы столько съесть». А вслух сказала:
Приходи, сосед, еще ко мне в гости, я ждать буду.
А что? — сказал Суслик. — Приду. У тебя хорошо. Я теперь к тебе часто ходить буду. Мне у тебя нравится.
Приходи, — сказала Мышка, а ночью, когда спали все, собрала она потихоньку свои манатки и перебралась жить на соседний курган.
— Большого, — говорит, — соседа иметь хорошо, но только если он к тебе в гости не ходит.
родился у околицы села Дубок. Увидели его козлята, позарились на листочки. И объели их.
Что вы делаете? — набежал на них Ветер. — Он же может вырасти и стать дубом.
Нашей деревне дубы не нужны, — сказали козлята. — Нам и чилижника хватит.
«Ну нет, — подумал Дубок, — я так просто не сдамся». Оправился маленько и пошел в рост. Поднялся, чтобы его козлята достать не смогли.
Козлятам он теперь был не по росту. Но увидели его телята. Позарились на его листочки, объели их.
Что вы делаете? — набежал на них Ветер. — Он же может вырасти и стать дубом.
Нашей деревне дубы не нужны, — сказали телята. — Нам и ракитника хватит.
«Ну нет, — подумал Дубок, — я так просто не сдамся». Оправился маленько и пошел в рост. Поднялся, повыше, чтобы его телята достать не смогли.
Телятам он был теперь не по росту. Но увидели его лошади. Позарились на его листочки, объели их.
Что вы делаете? — набежал на них Ветер. — Он же может вырасти и стать дубом.
Нашей деревне дубы не нужны, — сказали лошади. — Нам хватит и верб.
«Ну нет, — подумал Дубок, — я так просто не сдамся». Оправился маленько и опять пошел в рост. Поднялся, расправил плечи и стал большим и могучим.
И заблеяли козлята:
Вот и у нашей деревни Дуб есть.
Замычали телята:
Наш Дуб. У нашей деревни вырос.
А как же, — заржали лошади, — нашей деревне без Дуба нельзя.
И часто, когда становится жарко, лошади приходят под широкую тень его. Стоят и дремлют, слушают, как свистит в темных дуплах Ветер. Дупел было бы меньше у Дуба, если бы не ощипывали его когда-то козлята, не обирали его листочки телята, если бы не объедали его лошади. Но кто же знал тогда, что тоненький неуклюжий стебелек разрастется в такое могучее дерево!
виляй
Жил у бабушки Агафьи пес Виляй. Встарь еще жил, а до сих пор у нас на селе его помнят. Правда, Виляем его только дразнили, имя у него другое было, а какое — забыли все. Виляем его прозвали, когда он еще кутенком-ползуном был. Стоило, бывало, кому-нибудь остановиться возле него, как уж он хвостиком начинал повиливать.
— Трусишь? — спрашивали его братья.
— Нет, — отвечал он.
— А чего хвостом водишь?
— Да это чтобы видели все, что я живой.
Так было, пока он ползуном был, но и когда подрос, не изменился. Стоило, бывало, кому-нибудь глянуть на него построже, а уж он начинал изгибаться, поскуливать, хвостом вилять.