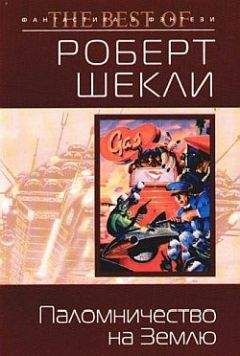Вы рассказали нам о чудесах этой страны. Чудеса придуманы прекрасно. Но в самом их обилии есть оттенок недоверия к пьесе. Подобие раздражения. Если чудо вытекает из того, что сказано в пьесе, – это работает на пьесу. Если же чудо хоть на миг вызовет недоумение, потребует дополнительного объяснения, – зритель будет отвлечен от весьма важных событий. Развлечен, но отвлечен.
Образцовое чудо, прелестное чудо – это цветы, распускающиеся в финале пьесы. Здесь все понятно. Ничто не требует дополнительных объяснений. Зритель подготовлен к тому, что цветы в этой стране обладают особыми свойствами (анютины глазки, которые щурятся, хлебные, винные и чайные розы, львиный зев, показывающий язык, колокольчики, которые звенят). Поэтому цветы, распускающиеся от радости, от того, что все кончается так хорошо, не отвлекают, а легко и просто собирают внимание зрителя на тот момент, который нам нужен.
Чудо с пощечиной – тоже хорошее чудо. Ланцелот так страстно хочет наказать подлеца, необходимость наказания так давно назрела, что зритель легко примет пощечину, переданную по воздуху. Но допускать, что в этой стране сильные желания вообще исполняются, – опасно. Не соответствует духу, рабскому духу этого города. В этом городе желания-то как раз ослаблены. Один Ланцелот здесь желает сильно. Если его желания сбудутся раз-другой – пожалуйста. Если этим мы покажем, насколько сильнее он умеет желать, чем коренные жители, – очень хорошо. Но здесь есть что-то отвлекающее. Требующее объяснений. Граф В. А. Соллогуб рассказывает, что Одоевский, автор фантастических сказок, сказал Пушкину, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. «…Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин рассмеялся… и сказал: „Да, если оно так трудно, зачем же он их пишет?.. Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их не трудно“».
Здесь Пушкин хотел сказать, что фантастические вещи должны быть легки. Легко придумываться и тем самым усваиваться.
Все Ваши чудеса придумываются легко. Но если они для усвоения потребуют объяснения – сразу исчезнет необходимое свойство чуда: легкая усвояемость. Зачем оно тогда нужно?
Вот Вам мои возражения против еще не существующей опасности. Чудо, которое сосредоточивает внимание, – чудесно. Чудо, которое отвлекает, – вредно. Позвольте в заключение привести несколько соображений, лишенных даже тени полемической. Чистые соображения. Результат наблюдений над жителями того города, где живет и царствует «Дракон».
Чудеса чудесами. В большем или меньшем количестве, они, конечно, должны быть и будут. Помимо же чудес – быт этого города в высшей степени устоявшийся, быт, подобный дворцовому, китайскому, индусскому.
В пределах этого быта, в рамках привычных – жители города уверены, изящны, аристократичны, как придворные или китайцы, как индусы. Выходя из привычных рамок, они беспомощны, как дети. Жалобно просятся обратно. Делают вид, что они, в сущности, и не вышли из них. Так, Шарлемань пробует убедить себя и других, что он вовсе и не вышел из рамок. («Любовь к ребенку это же можно! Гостеприимство это тоже вполне можно».) Эльза, образцовая, добродетельная гражданка этой страны, говорит Ланцелоту: «Все было так ясно и достойно».
Они уверены в своей нормальности, гордятся, что держатся достойно.
Увереннее, аристократичнее, изящнее всех Генрих, потому что он ни разу не выходит из привычных рамок, никогда не выйдет и не почувствует в этом необходимости.
И он всегда правдив. Искренне уговаривает Эльзу, простосердечно уговаривает отца сказать ему правду, ибо он не знает, что врет. Он органически, всем существом своим верует, что он прав, что делает, как надо, поступает добродетельно, как должно.
Так же искренне, легко, органично врет и притворяется его отец. Настолько искренне врет, что вопрос о том, притворяется он сумасшедшим или в самом деле сумасшедший, – отпадает. Во всяком случае в безумии его нет и тени психопатологии. Вот и все пока, милый Николай Павлович. Уже поздно, я устал писать. Если что в последних строках моего письма ввиду этого недостаточно ясно, то я могу и устно объясниться. На этом разрешите закончить первое мое письмо. Остаюсь полный лучшими чувствами.
Бывший худрук,
настоящий завлит Е. Шварц
18 февраля
В.В. Лебедев. Возвращаюсь в двадцатые годы. Владимир Васильевич Лебедев считался в то время лучшим советским графиком. Один художник сказал при мне, что Лебедев настолько опередил остальных, оторвался, что трудно сказать, кто следующий. Кроме того, в свое время он был чемпионом по какому-то разряду бокса. И в наше время он на матчах сидел у ринга на особых местах, судил. У него дома висел мешок с песком, на каком тренируются боксеры. И он тренировался. Но, несмотря на ладную его фигуру, впечатления человека в форме, тренированного, он не производил. Мешала большая, во всю голову лысина и несколько одутловатое лицо с дряблой кожей. Брови у него были густые, щеткой, волосы вокруг лысины – тоже густые, что увеличивало ощущение беспорядка, неприбранности, неспортивности. И одевался он старательно, сознательно, уверенно, но беспокоил взгляд, а не утешал, как человек хорошо одетый. Что-то не вполне ладное, как и в соединении нездорового лица и здоровой фигуры, чувствовалось в его матерчатом картузе с козырьком, вроде кепи французских солдат, в коротеньком клетчатом пальто, нет, полупальто, в каких-то особенных полувоенных ботинках до колеи, со шнуровкой. Глаз на нем не отдыхал, а уставал. Он держался просто – как бы просто, одевался как бы просто, но был сноб. Особого рода сноб. Ему импонировала не знатность, а сила. Как и Шкловский и Маяковский, он веровал, что время всегда право. Все носили тогда кепки и толстовки, и лебедевская одежа была его данью времени.
19 февраля
Он примирял то, что ему было органично, с тем, что требовалось. Не по расчету, а по внутреннему влечению: время всегда право. Он любил сегодняшний день, то, что в этом дне светит, дает наслаждение, питает. И носителей этой силы узнавал, угадывал и распределял по рангам с такой безошибочностью, как будто титулы их не подразумевались, а назывались вслух, как в обществе, уже устоявшемся. Повторяю и подчеркиваю: никакого подхалимства или расчета тут не было и следа. Говорила его любовь к силе. И судил он, кто силен, а кто нет, – с той же тщательностью, знанием и опытом, как и сидя на ринге. Он любил сегодняшний день и натуру, натуру! Натурщица приходила к нему ежедневно, и несколько часов он писал и рисовал непременно, без пропуска. Так же любил он кожаные вещи, у него была целая коллекция ботинок, полуботинок, сапог. Полувоенные чудища со шнуровкой до колен были из его богатого собрания. Собирал он и ремни. Обширная его мастерская ничем не походила на помещение человека, коллекционирующего вещи. Как можно! Мольберт, подрамники, папки, скромная койка, мешок с песком для тренировки. Но в шкафах скрывались редкие книги, коллекция русского лубка. Сами шкафы были отличны. Он любил вещи, так любил, что в Кирове сказал однажды в припадке отчаяния, боясь за свои ленинградские сокровища, что вещи больше заслуживают жалости, чем люди. В них – лучшее, что может человек сделать. Да, людей он не слишком любил. Он любил в них силу. А если они слабели, то слабела и исчезала сама собой и его дружба. Его религия не признавала греха, чувства вины.
20 февраля
Он спокойно обладал, наслаждался натурой, сапогами, чемоданами, женщинами – точнее, должен был бы спокойно обладать и наслаждаться по его вере. Но кто не грешен богу своему! Спокойствие-то у него отсутствовало. При первом знакомстве об этом не догадывались. Кто держался увереннее и мужественнее? Но вот Маршак сказал мне однажды, что близкий Лебедеву человек жаловался, пробыв с ним месяц на даче. На что? На беспокойный, капризный, женственный характер Владимира Васильевича. Я был очень удивлен по незнанию, по тогдашней неопытности своей. Впоследствии я привык к этому явлению – к нервности и женственности мужественных здоровяков этой веры или, что в данном случае все равно, этой конституции. Относясь с религиозным уважением к желаниям своим, они капризничают, тиранствуют, устают. И не любят людей. Ох, не любят. С какой беспощадностью говорит он о знакомых своих, когда не в духе. Хуже завистника! Они мешали Лебедеву самым фактом своего существования. Раздражали, стесняли, как сожитель по комнате. Кроме тех случаев, о которых я говорил выше. Когда безошибочное чутье сноба не подсказывало ему, что некто сегодня аристократ. В разговорах своих Лебедев резко двойственен. Иногда он точен и умен. Он сказал, например, Маршаку: «Если я рисую понятно – это моя вежливость». Но иной раз, сохраняя спокойствие, только изредка похохатывая, неудержимо несет он такое, что ни понять, ни объяснить невозможно.