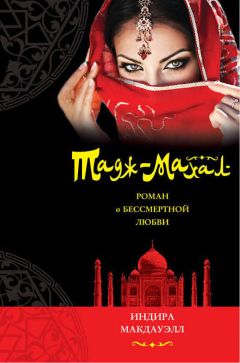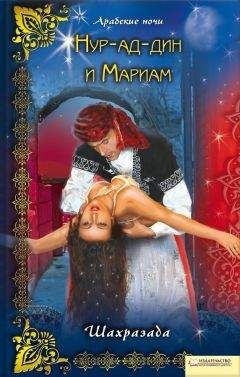Потом садовник подал пучок роз шестому, и тот взял его и произнёс такое двустишие:
«О роза-все дивные красоты в ней собраны,
И в ней заключил Аллах тончайшие тайны.
Подобна она щекам возлюбленного, когда
Отметил их любящий при встрече динаром».
Потом садовник подал пучок роз седьмому, и тот взял его и произнёс такое двустишие:
«Вопрошал я: «Чего ты колешься, роза?
Кто коснётся шипов твоих, тут же ранен».
Отвечала: «Цветов ряды – моё войско,
Я султан их и бьюсь шипом, как оружьем».
Потом садовник подал пучок роз восьмому, и тот взял его и произнёс такое двустишие:
«Аллах, храни розу, что стала желта,
Прекрасна, цветиста и злато напомнит,
И ветви храни, что родили её
И нам принесли её жёлтые солнца».
Потом садовник подал пучок роз девятому, и тот взял его и произнёс такое двустишие:
«Жёлтых роз кусты – влечёт всегда прелесть их
К сердцу любящих ликованье и радости.
Диво дивное этот малый кустик – напоён он
Серебром текучим, и золото принёс он нам».
Потом садовник подал пучок роз десятому, и тот взял его и произнёс такое двустишие:
«Ты видишь ли, как войско роз гордится
И жёлтыми и красными цветами?
Для розы и шипов найду сравненье:
То щит златой, и в нем смарагда стрелы».
И когда розы оказались в руках юношей, садовник принёс скатерть для вина и поставил между ними фарфоровую миску, расписанную ярким золотом, и произнёс такие два стиха:
«Возвещает заря нам свет, напои же
Вином старым, что делает неразумным,
Я не знаю – прозрачна так эта влага, –
В чаше ль вижу её, иль чашу в ней вижу».
Потом садовник этого сада наполнил и выпил, и черёд сменялся, пока не дошёл до Нур-ад-дина, сына купца Тадж-ад-дина. И садовник наполнил чашу и подал её Нур-ад-дину, и тот сказал: «Ты знаешь, что это вещь, которой я не знаю, и я никогда не пил этого, так как в нем великое прегрешенье и запретил его в своей книге всевластный владыка». – «О господин мой Нур-ад-дин, – сказал садовник сада, – если ты не стал пить вино только из-за прегрешения, то ведь Аллах (слава ему и величие!) великодушен, кроток, всепрощающ и милостив и прощает великий грех. Его милость вмещает все, и да помилует Аллах кого-то из поэтов, который сказал:
Каким хочешь будь – Аллах поистине милостив,
И коль согрешишь, с тобой не будет дурного.
Лишь два есть греха, и к ним вовек ты не подходи;
Приданье товарищей[1] и к людям жестокость».
А потом один из сыновей купцов сказал: «Заклинаю тебя жизнью, о господин мой Нур-ад-дин, выпей этот кубок!» И подошёл другой юноша и стал заклинать его разводом, и другой встал перед ним на ноги, и Нур-ад-дин застыдился и взял у садовника кубок и отпил из него глоток, но выплюнул его и воскликнул: «Оно горькое!» И садовник сказал ему: «О господин мой Нур-ад-дин, не будь оно горьким, в нем не было бы этих полезных свойств. Разве ты не знаешь, что все сладкое, что едят для лечения, кажется вкушающему горьким, а в этом вине – многие полезные свойства и в числе их то, что оно переваривает пищу, прогоняет огорчение и заботу, прекращает ветры, просветляет кровь, очищает цвет лица и оживляет тело. Оно делает труса храбрым и усиливает решимость человека к совокуплению, и если бы мы упомянули все его полезные свойства, изложение, право, бы Затянулось. А кто-то из поэтов сказал:
Я пил и прощением Аллаха был окружён,
Недуги свои лечил я, чашу держа у губ.
Смутили меня – я знал греховность вина давно –
Аллаха слова, что в нем полезное для людей».
Потом садовник, в тот же час и минуту, поднялся на ноги и, открыв одну из кладовых под этим портиком, вынул оттуда голову очищенного сахару и, отломив от неё большой кусок, положил его в кубок Нур-ад-дина и сказал: «О господин мой, если ты боишься пить вино из-за горечи, выпей его сейчас, – оно стало сладким». И Нур-ад-дин взял кубок и выпил его, а потом чашу наполнил один из детей купцов и сказал: «О господин мой Нур-ад-дин, я твой раб!» И другой тоже сказал: «Я один из твоих слуг». И поднялся третий и сказал: «Ради моего сердца!» И поднялся ещё один и сказал: «Ради Аллаха, о господин мой Нур-ад-дин, залечи моё сердце». И все десять сыновей купцов не отставали от Нур-ад-дина, пока не заставили его выпить десять кубков – каждый по кубку.
А нутро у Нур-ад-дина было девственное – он никогда не пил вина раньше этого часа – и вино закружилось у него в мозгу, и опьяненье его усилилось. И он поднялся на ноги (а язык его отяжелел, и речь его стала непонятной) и воскликнул: «О люди, клянусь Аллахом, вы прекрасны и ваши слова прекрасны, и это место прекрасно, но только в нем недостаёт хорошей музыки. Ведь сказал об этом поэт такие два стиха:
Пусти его вкруг в большой и малой чаше,
Бери его из рук луны лучистой.
Не пей же ты без музыки – я видел,
Что даже конь не может пить без свиста».
И тогда поднялся юноша, хозяин сада, и, сев на мула из мулов детей купцов, скрылся куда-то и вернулся. И с ним была каирская девушка, подобная свежему курдюку, или чистому серебру, или динару в фарфоровой миске, или газели в пустыне, и лицо её смущало сияющее солнце: с чарующими глазами, бровями, как изогнутый лук, розовыми щеками, жемчужными зубами, сахарными устами и томными очами; с грудью, как слоновая кость, втянутым животом со свитыми складками, ягодицами, как набитые подушки, и бёдрами, как сирийские таблицы, а между ними была вещь, подобная кошельку, завёрнутому в кусок полотна. И поэт сказал о ней такие стихи:
И если б она явилась вдруг многобожникам,
Сочли бы её лицо владыкой, не идолом.
А если монаху на востоке явилась бы,
Оставил бы он восток, пошёл бы на запад он.
А если бы в море вдруг солёное плюнула,
То стала б вода морская от слюны сладкою.
А другой сказал такие стихи:
Прекраснее месяца, глаза насурьмив, она,
Как лань, что поймала львят, расставивши сети,
Её осенила ночь в прекрасных кудрях её
Палаткою из волос, без кольев стоящей.
На розах щеки её огонь разжигается
Душою расплавленной влюблённых и сердцем,
Когда бы красавицы времён её видели,
То встали б и крикнули: «Пришедшая лучше!»
А как прекрасны слова кого-то из поэтов:
Три вещи мешают посетить нас красавице –
Страшны соглядатаи и злые завистники:
Сияние лба её, её украшений звон
И амбры прекрасной залах в складках одежд её.
Допустим, что лоб закрыть она б рукавом могла
И снять украшения, но как же ей с потом быть?
И эта девушка была подобна луне, когда она становится полной в четырнадцатую ночь, и было на ней синее платье и зеленое покрывало над блистающим лбом, и ошеломляла она умы и смущала обладателей разума…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.
Восемьсот шестьдесят седьмая ночь
Когда же настала восемьсот шестьдесят седьмая ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что садовник того сада привёл юношам девушку, о которой мы говорили, что она до предела красива, прелестна, стройна станом и соразмерна, и как будто о ней хотел сказать поэт:
Вот явилась в плаще она голубом к нам,
Он лазурным, как неба цвет, мне казался.
И, всмотревшись, увидел я в той же одежде
Месяц летний, сияющий зимней ночью.
А как прекрасны и превосходны слова другого:
Плащом закрывшись, пришла она. Я сказал: «Открой
Нам лицо твоё, светоносный месяц, блестящее».
Она молвила: «Я боюсь позора!» Сказал я: «Брось!
Переменами дней изменчивых не смущайся ты!»
Красоты покров подняла она с ланит своих,
И хрусталь закапал на яхонты горящие.
И решил коснуться устами я щеки её,
Чтоб тягаться с ней в день собрания мне не выпало
И чтоб первыми среди любящих оказались мы,
Кто на суд пришёл в воскресенья день к богу вышнему.
И тогда скажу я: «Продли расчёт и заставь стоять
Ты подольше нас, чтоб продлился взгляд на любимую!»
И юноша-садовник сказал девушке: «Знай, о владычица красавиц и всех блистающих звёзд, что мы пожевали твоего прихода в это место только для того, чтобы ты развлекала этого юношу, прекрасного чертами, господина моего Нур-ад-дина. И он не приходил к нам в это место раньше сегодняшнего дня». – «О, если бы ты мне сказал об этом раньше, чтобы я принесла то, что у меня есть!» – воскликнула девушка. «О госпожа, я схожу и принесу тебе это», – сказал садовник. И девушка молвила: «Делай как тебе вздумалось!» – «Дай мне что-нибудь, как знак», – сказал садовник. И девушка дала ему платок.
И тогда садовник быстро ушёл и отсутствовал некоторое время, а потом вернулся, неся зелёный мешок из гладкого шелка, с двумя золотыми подвесками. И девушка взяла мешок у садовника и развязала его и вытряхнула, и из него выпало тридцать два кусочка дерева, и девушка стала вкладывать кусочки один в другой, мужские в женские и женские в мужские, и, обнажив кисти рук, поставила дерево прямо, и превратилось оно в лютню, полированную, натёртую, изделие индийцев. И девушка склонилась над ней, как мать склоняется над ребёнком, и пощекотала её пальцами руки, и лютня застонала, и зазвенела, и затосковала по прежним местам, и вспомнила она виды, что напоили её, и землю, на которой она выросла и воспиталась. И вспомнила она плотников, которые её вырубили, и лакировщиков, что покрыли её лаком, и купцов, которые её доставили, и корабли, что везли её, и возвысила голос, и закричала, и стала рыдать, и запричитала, и казалось, что девушка спросила её об этом, и она ответила языком обстоятельств, произнося такие стихи: