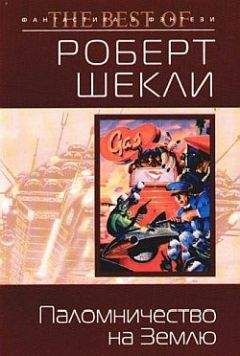ВТОРОЙ
Какая простота!
Дурак играл на балалайке
И вдруг, как зернышко, расцвел.
О несознательной хозяйке
О музе разговор завел…
Сейчас я спички достаю
И поджигаю жизнь твою.
ПЕРВЫЙ
Я не знал ни дня, ни часа,
У окошка я сидел,
Балалайку скромно дергал, —
Потихоньку песни пел.
О великий литератор,
Замечательный оратор.
Извините, я горю
И нескладно говорю.
Тлеет бедный мой живот,
В бороде сгорают крошки,
Из моей несчастной ножки
Бесполезный дым идет.
Смотрит заяц из куста,
Шерсть прекрасна и густа.
Извините, я горю,
Я нескладно говорю,
Но однако же, товарищ,
Посмотри-ка, дорогой,
Я встаю в дыму пожарищ
Победитель и герой.
В результате столкновенья
Просвещенный великан
Через копоть и туман
Я восстал венцом творенья.
Добродушные вулканы
И глубокие моря
Окружают великана,
Оживленно говоря.
Посмотрите, он горит
И свободно говорит.
Все понятно, все приятно,
Все доступно, все мое,
Не хочу идти обратно
В неопрятное жилье.
Пусть летит огонь по жилам,
Служит он великим силам.
[Начало 20-х годов]
Додя. Лида, Лидочка. Чего мы тут сидим, разговариваем. Лидочка, Лида!
Лидия Сергеевна. Не знаю.
Додя. Мы их боимся? Вы боитесь идиотов?
Лидочка. Идиоты! Шепчутся. Нет, вы послушайте, почему я к ним хорошо отношусь. Осторожно отношусь. (Читает.)
Смотрю я и вижу —
Идет идиот.
Все ближе и ближе.
Сейчас подойдет.
Знакомая рожа —
И прыщик, и цвет,
И мышцы, и кожа,
И просто одет.
Согласно законам
Сгибает бедро,
В бедре электроны,
Их держит ядро.
Миры вереницей
По телу летят,
Огромны границы
От тела до пят.
По мерам и числам
Он гладит, он бьет,
Он гадит, он чистит,
Он песни поет.
Подобно погоде,
Подобно грозе,
Ко мне он подходит
По точной стезе.
Приятны и гнезда,
И птицы, и лес,
Понятные звезды
Сияют с небес.
Но эта конечность,
И ноздри, и зад,
Где сила и вечность
Клокочут, блестят!
Что делать? Подходит,
Серьезно глядит,
Руками поводит
И тихо гудит.
Какая-то сила
Его завела,
Волос накрутила,
Ушей наплела.
Хвалить, восхищаться?
Но он не поймет —
Ругать, защищаться?
Но он идиот.
И я притворяюсь,
Что мне ничего,
Смиренно стараюсь
Не трогать его.
[Начало 20-х годов]
Уставший и остывший,
С постылою судьбой,
Незнавший и забывший,
Как быть ему с собой.
За ним несется ветер,
Трава скользит у ног,
Сверчок свистит на вечер,
Встревоженный сверчок.
Вода журчит в канаве
Далеким ручейком,
А свет скользит в канаву
И пляшет кувырком.
А он идет унылый,
Усталый, постылый,
Сутулый и пустой,
С карманною могилой,
С фарфором за спиной
И с гамбургской луной.
[1924 – 1926]
* * *
Я не пишу больших полотен —
Для этого я слишком плотен,
Я не пишу больших поэм,
Когда я выпью и поем.
[20-е годы]
Стихи о Серапионовых братьях, сочиненные в 1924 году
Серапионовы братья —
Непорочного зачатья.
Родил их «Дом искусств»
От эстетических чувств.
Михаил Слонимский:
Рост исполинский, —
Одна нога в Госиздате
И не знает, с какой стати,
А другая в «Ленинграде»
И не знает, чего ради.
Голова на том свете,
На дальней планете,
На чужой звезде.
Прочие части неизвестно где.
Константин Федин
Красив и бледен.
Пишет всерьез
Задом наперед
Целуется взасос.
И баритоном поет.
Зощенко Михаил
Всех дам покорил —
Скажет слово сказом,
И готово разом.
Любит радио,
Пишет в «Ленинграде» о
Разных предметах
Полонская Елизавета.
Вениамин Каверин
Был строг и неумерен.
Вне себя от гнева
Так и гнул налево.
Бил быт,
Был бит.
А теперь Вениамин
Образцовый семьянин,
Вся семья Серапионова
Ныне служит у Ионова.
15/III.1928
Был случай ужасный – запомни его:
По городу шел гражданин Дурнаво.
Он всех презирал, никого не любил.
Старуху он встретил и тростью побил.
Ребенка увидел – толкнул, обругал.
Котенка заметил – лягнул, напугал.
За бабочкой бегал, грозя кулаком,
Потом воробья обозвал дураком.
Он шествовал долго, ругаясь и злясь,
Но вдруг поскользнулся и шлепнулся в грязь.
Он хочет подняться – и слышит: «постой,
Позволь мне, товарищ, обняться с тобой,
Из ила ты вышел когда-то —
Вернись же в объятия брата.
Тебе, Дурнаво, приключился конец.
Ты был Дурнаво, а теперь ты мертвец.
Лежи, Дурнаво, не ругайся,
Лежи на земле – разлагайся».
Тут всех полюбил Дурнаво – но увы!
Крыжовник растет из его головы,
Тюльпаны растут из его языка,
Орешник растет из его кулака.
Все это прекрасно, но страшно молчать,
Когда от любви ты желаешь кричать.
Не вымолвить доброго слова
Из вечного сна гробового!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Явление это ужасно, друзья:
Ругаться опасно, ругаться нельзя!
[Начало 30-х годов]
Поднимается в гору
Крошечный филистимлянин
В сандалиях,
Парусиновых брючках,
Рубашке без воротничка.
Через плечо пиджачок,
А в карманах пиджачка газеты
И журнал «Новое время».
Щурится крошка через очки
Рассеянно и высокомерно
На бабочек, на траву,
На березу, на встречных
И никого не замечает.
Мыслит,
Щупая небритые щечки.
Обсуждает он судьбу народов?
Создает общую теорию поля?
Вспоминает расписание поездов?
Все равно – рассеянный,
Высокомерный взгляд его
При небритых щечках,
Подростковых брючках,
Порождает во встречных
Глубокий гнев.
А рядом жена,
Волоокая с негритянскими,
Дыбом стоящими волосами.
Кричит нескромно:
– Аня! Саня!
У всех народностей
Дети отстают по пути
От моря до дачи:
У финнов, эстонцев,
Латышей, ойротов,
Но никто не орет
Столь бесстыдно:
– Аня! Саня!
Саня с длинной шейкой,
Кудрявый, хрупкий,
Уставил печальные очи свои
На жука с бронзовыми крылышками.
Аня, стриженая,
Квадратная,
Как акушерка,
Перегородила путь жуку
Листиком,
Чтобы убрать с шоссе неосторожного.
– Аня! Саня! Скорее. Вам пора
Пить кефир.
С горы спускается
Клавдия Гавриловна,
По отцу Петрова,
По мужу Сидорова,
Мать пятерых ребят.
Вдова трех мужей,
Работающая маляром
В строй-ремонт-конторе.
Кассир звонил из банка,
Что зарплаты сегодня не привезут.
И вот – хлеб не куплен.
Или, как некий пленник, не выкуплен.
Так говорит Клавдия Гавриловна:
Хлеб не выкуплен,
Мясо не выкуплено,
Жиры не выкуплены.
Выкуплена только картошка,
Не молодая, но старая,
Проросшая, прошлогодняя,
Пять кило древней картошки
Глядят сквозь петли авоськи.
Встретив филистимлян,
Света не взвидела
Клавдия Гавриловна.
Мрак овладел ее душой.
Она взглянула на них,
Сынов божьих, пасынков человеческих,
И не было любви в ее взоре.
А когда она шла
Мимо Сани и Ани,
Худенький мальчик услышал тихую брань.
Но не поверил своим ушам.
Саня веровал: так
Женщины не ругаются.
И только в очереди
На страшном суде,
Стоя, как современники,
рядышком,
Они узнали друг друга
И подружились.
Рай возвышался справа,
И Клавдия Гавриловна клялась,
Что кто-то уже въехал туда:
Дымки вились над райскими кущами.
Ад зиял слева,
С колючей проволокой
Вокруг ржавых огородов,
С будками, где на стенах
Белели кости и черепа,
И слова «не трогать, смертельно!»
С лужами,
Со стенами без крыш,
С оконными рамами без стекол,
С машинами без колес,
С уличными часами без стрелок,
Ибо времени не было.
Словно ветер по траве
Пронесся по очереди слух:
«В рай пускают только детей».
«Не плачьте, Клавдия Гавриловна, —
Сказал маленький филистимлянин, улыбаясь, —
Они будут посылать нам оттуда посылки».
Словно вихрь по океану,
Промчался по очереди слух:
«Ад только для ответственных».
«Не радуйтесь, Клавдия Гавриловна, —
Сказал маленький филистимлянин,
улыбаясь, —
Кто знает, может быть, и мы с вами
За что-нибудь отвечаем!»
«Нет, вы просто богатырь, Семен Семенович, —
Воскликнула Клавдия Гавриловна, —
Шутите на страшном суде!»
[1946 – 47]
Из писем жене E.И. Зильбер (Шварц)
(Ленинград) (1928)
Милый мой Катарин Иванович, мой песик, мой курносенький. Мне больше всего на свете хочется, чтобы ты была счастливой. Очень счастливой. Хорошо?