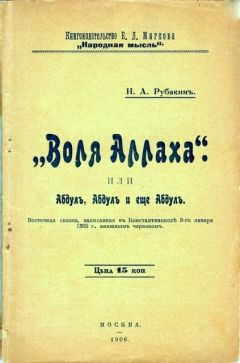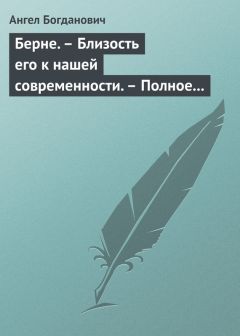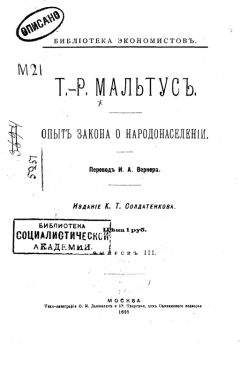— А вѣдь эти поля помѣщичьи,— почему то вдругъ подумалъ Мустафа.— А вонъ тѣ виноградники принадлежатъ Ибрагиму пашѣ…
Мустафа только то и думалъ, глядя по сторонамъ, что кому принадлежитъ и кто чѣмъ владѣетъ. И почему лѣзли въ голову Мустафы какъ разъ эти самыя мысли,— онъ и самъ хорошенько не зналъ. Никакихъ другихъ мыслей у него въ головѣ больше не было.
Вдругъ недалеко отъ Мустафы раздался громкій человѣческій крикъ:
— Аллахъ акбар. (Помогите людямъ во славу Аллаха).
Повернувшись, Мустафа увидѣлъ на тропинкѣ двухъ какихъ-то людей въ лохмотьяхъ! Оба были почти полуголые, со встрепанными сѣдыми волосами, босые, съ загорѣлыми лицами. Одинъ человѣкъ велъ другого. Одинъ былъ слѣпой, а другой зрячій. Зрячій велъ слѣпого, держа его за полу одежды.
— Факиры,— святые люди, подумалъ Мустафа. Онъ вскочилъ на ноги, подошелъ къ факирамъ и поклонился имъ до земли. Тѣ остановились и стали разспрашивать Мустафу кто онъ и откуда. Радъ былъ Мустафа, что можетъ хотъ съ кѣмь нибудь душу свою отвести. Разсказалъ онъ факирамъ свое горе и свои обиды. Тѣ внимательно выслушали разговоръ Мустафы, а когда онъ окончилъ, то зрячій разсмѣялся во все горло.
— Милый ты человѣкъ! — воскликнулъ онъ.— Я только что самъ просилъ тебя о помощи, а теперь вотъ что тебе скажу, кто однихъ проситъ, тотъ другимъ самъ даетъ.
Мустафа не понялъ этихъ словъ факира.
— Не понимаешь? — спросилъ его факиръ.— Ну такъ слушай, я тебѣ все разскажу. Я разскажу тебѣ только потому, что душа у тебя простая, нетронутая: умомъ не поймешь, чутьемъ поймешь.
Факиры съ Мустафой подошли къ тѣнистому дереву и сѣли рядкомъ на траву.
— Можно ли человѣка наказывать за куриную вину? — спросилъ Мустафа факира.
Все его горе, вся обида выливалась въ этихъ словахъ. Онъ нѣсколько разъ повторялъ этотъ свой вопросъ, и послѣ каждаго такого вопроса оба факира смѣялись во все горло надъ Мустафой. Тотъ совершенно не понималъ, почему они надъ нимъ смѣются. Его сердце чуяло, что факиры вовсе не желаютъ его обижать, и что они желаютъ ему добра. А коли такъ, такъ что же смѣшного въ его великомъ несчастьи и въ его обидѣ. Мустафа собрался съ духомъ и спросилъ объ этомъ факира.
— Слушай,— отвѣчалъ тотъ.— Ужъ по одному этому твоему слову видно, что ты за человѣкъ. Ты копаться-копаешься, а докопаться не докопаешься. О курицахъ ты рассуждаешь какъ слѣдуетъ, а о людяхъ у тебя и разсужденія нѣтъ. Развѣ въ томъ твоя бѣда, что тебя наказали за куриную вину. Настоящая бѣда твоя въ томъ, что тебя, какъ ни какъ, а наказали, и ты страданіе терпишь.
Слушалъ Мустафа эти рѣчи и ничего въ нихъ не понималъ. Отъ этихъ рѣчей, какъ и отъ рѣчей имама, каша въ его головѣ становилась еще больше, Смотрѣлъ, смотрѣлъ на него факиръ и ясно видѣлъ, что Мустафа ровно ничего не понимаетъ.
— Не понятно? — спрашиваетъ онъ Мустафу.
— Не понятно,— со всей искренностью отвѣчаетъ тотъ
Тогда факиръ заговорилъ съ Мустафой новымъ способомъ.
— Вотъ солнышко свѣтитъ,— такъ началъ онъ свою рѣчь. Скажи мнѣ теперь, Мустафа, для кого же оно свѣтитъ. Для меня и для тебя? Только для меня или только для тебя? Не для насъ ли обоихъ и не для всѣхъ ли людей, какiе только на землѣ живутъ? И кто можетъ сказать, глядя на это солнышко и наслаждаясь его лучами, что оно только мое, только мое, а не чужое. Наслаждайся, пользуйся имъ всякій желающій, кто сколько хочетъ и кому сколько нужно. И свѣтомъ наслаждайся и тепломъ: вѣдь свѣтитъ и грѣетъ солнце не для одного кого нибудь, а для всѣхъ и каждаго. И оно само, и его свѣтъ и его теплота—достоянiе общее. И воздухъ достояніе общее: дыши имъ, кто сколько хочетъ и у кого сколько грудь вмѣщаетъ. И вода въ этой рѣчкѣ, развѣ она чья нибудь? Она тоже, какъ воздухъ. Пей ее, кому сколько нужно и кому сколько хочется. Нѣтъ такого человѣка, которому бы не приходилось ни пить, ни дышать и на солнышкѣ не грѣться и его свѣтомъ не пользоваться, потому что всѣ ужъ люди такъ устроены. Не сами себя они такіми сдѣлали и не потому они родились на свѣтъ, что сами этого желали, а потому, что ихъ другая сила на свѣтъ выперла противъ ихъ собственной воли. Значитъ, коли ты родился такимъ, а не инымъ, такъ кто же тебѣ смѣетъ и можетъ сказать: не дыши, не пей, не грѣйся и свѣтомъ не пользуйся. А если кто и скажетъ такъ, то кто же онъ такой? Да такой же самый звѣрь двуногій какъ и ты самъ, и такого же самаго устройства и той же породы, что и ты. Что онъ, что ты все едино. А коли кто и скажетъ явно нелѣпыя и подлыя слова, такъ кто же эти слова станетъ слушать. Да вѣдь слушаться то и моченьки нѣтъ. «Не дыши» — кто можетъ не дышать. «Не пей» — да кто же можетъ не пить; «не грѣйся», «живи въ темнотѣ» — все это слова,— пустыя слова, а кто ихъ сдуру попробуетъ слушаться, такъ этимъ выворачиваетъ наизнанку и свою собственную и вообще человѣческую природу. А вотъ ее то выворачивать — это и значитъ противъ правды идти. Вывернуть ее можно только тогда, когда перестанешь человѣкомъ быть. Кто больше выворачиваетъ, тотъ меньше начинаетъ на человѣка походить. Что говорилъ я насчетъ питья, то же самое слѣдуетъ сказать и насчетъ ѣды. Если кто мнѣ скажетъ «не ѣшь», развѣ я того послушаю. Ѣда для меня такъ же нужна, какъ и воздухъ, какъ и свѣтъ и тепло. Это понимаешь?
— Это я понимаю,— отвѣчалъ Мустафа. Я… я… я… очень даже ѣсть хочу…
— А то, что необходимо, того и нельзя держать за запорами, да за заставами: нельзя, напримѣръ, свѣтъ не допускать, тепло не допускать, воздухъ не допускать, пищу не допускать. И это ты понимаешь?
— Это я… тоже понимаю,— отвѣчалъ Мустафа.
И правда, понялъ онъ въ эту минуту, что его темная вонючая коморка была просто напросто тоже за заставами, которыя какими то способами отгородили его и отъ воздуха, и отъ свѣта, и отъ тепла, и отъ сытной ѣды, и отъ жизни, похожей на человѣчью. Понялъ онъ, что и ѣду онъ добывалъ весь свой вѣкъ, словно изъ за какой заставы. И каждый день Мустафа поневолѣ долженъ былъ даже радоваться, что есть ему для ѣды хоть на сегодня гнилой чеснокъ или морковь. Понялъ Мустафа, что и, правда, всю жизнь онъ прожилъ какъ бы за заставами. И почуялъ онъ около себя многое множество разныхъ заставъ — и большихъ, и малыхъ, и крупныхъ, и мелкихъ, и онѣ были вездѣ и всюду, и вблизи, и вдали, и днемъ, и ночью, и не только при жизни Мустафы, но еще до его рожденія. Для него — всюду и вездѣ. И не только онѣ были для него одного, но и для всѣхъ такихъ же, какъ онъ, но не для всѣхъ людей, потому что не всѣ люди живутъ за заставами, иные, какъ будто, сами ихъ строятъ. Все это стало Мустафѣ такъ ясно; но не успѣлъ онъ даже опомниться и придти въ себя отъ этой самой ясности, какъ уже снова померкъ свѣтъ въ его темной головѣ.
— На все воля Аллаха,— пробормоталъ онъ, опуская голову…
Лишь только сказалъ Мустафа эти слова, вскочилъ зрячій факиръ на ноги и воскликнулъ:
— Жалкій же ты человѣкъ, жалкій, жалкій, несчастный. И гдѣ же такія люди родятся, которые ничего, ничего не знаютъ, ничего не понимаютъ, а только жмутся да ежатся. Горе, горе такимъ людямъ. Весь свой вѣкъ они такъ и не отличаютъ огурца отъ ананаса. Весь свой вѣкъ они нюхаютъ кизякъ и думаютъ, что это амбра. Да, такъ и должно съ ними быть, потому что словъ правды они не отличаютъ отъ словъ лжи. Они перемѣнили свой умъ на чужой умъ, свои мысли и свои чувства на чужія мысли и чужія чувства. Даже свою совѣсть они перемѣняютъ на чужую совѣсть. И, что всего хуже, они сами не замѣчаютъ этого. Самихъ себя они наизнанку выворачиваютъ, да еще съ чужой помощью. Они сами сдѣлали себя червяками, которые ползутъ по землѣ и какъ будто просятъ, чтобы ихъ не раздавилъ первый прохожій. Если они и придутъ когда нибудь къ самой правдѣ, такъ тотчасъ же въ нее упрутся, и даже не лбомъ, а затылкомъ, и эту самую правду такъ и не отличаютъ отъ навоза. Ихъ тѣсныя каморки построены изъ ихъ слезъ да изъ чужихъ обманныхъ словъ. Ихъ голодная, собачья жизнь потому и голодная, что они думаютъ питаться не своими дѣлами, а чужими словами. Горе такимъ, горе такимъ! На нихъ не благословеніе, а проклятіе Аллаха, потому что Аллаху дороги не нѣкоторые люди, а весь человѣческій родъ!
Мустафу какъ громомъ поразили всѣ эти рѣчи. Его сердце чуяло въ нихъ и гнѣвъ, и упрекъ, и слезы. Что то въ глубинѣ души шевелилось у Мустафы и говорило ему о многомъ, многомъ. Только умъ отказывался и никакъ не могъ понять, о чемъ же собственно идетъ рѣчь и на что негодуетъ святой человѣкъ — факиръ. Оба факира стояли передъ Мустафой гнѣвные, грозные, вдохновленные. А онъ сидѣлъ передъ ними на землѣ, низко, низко опустивъ свою темную, бѣдную голову и думалъ только объ одномъ: какъ бы ему съежиться еще больше, хоть бы провалиться сквозь землю. Факиръ это замѣтилъ и сжалился надъ Мустафой.