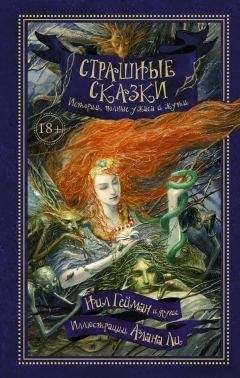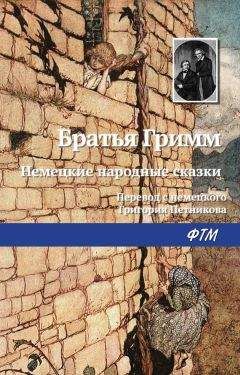В хронике Титмара Мерзебургского (976-1018) безымянный рыцарь терпит наказание за насильственный захват монастырских земель. Мыши вторгаются в его замок. Он мужественно обороняется от них палкой и мечом. Сразив несколько противников и не в силах сладить с остальными, он велит подвесить к потолку большой сундук и влезает в него. Крышка с грохотом падает. Какое-то время слышатся глухие удары, потом все стихает. Слуги выходят на цыпочках из комнаты и притворяют дверь. Минует день, другой, неделя — мышей нигде не видать. Домочадцы спешат с радостной вестью к главе семьи, но, опустив сундук на пол и подняв крышку, обнаруживают холодный труп. Самые зоркие из них замечают на теле следы мышиных зубов: "Тогда всем присутствующим и прибывшим позже стало ясно, что это карающий гнев Божий поразил его за названное преступление" [497].
Английский хронист Вильям Малмсберийский (1090–1143) рассказывает любопытную историю о мышах, которые "словно под действием колдовских чар" направляли свою злобу на некоего врага германского императора Генриха IV (1056–1106). Еще один враг еще одного Генриха! Этот враг, "личность ненадежная и склонная к мятежу", подвергся мышиной атаке, сидя за пиршественным столом. Из-за стола его отправили на корабль и увезли в море с глаз долой. Однако мыши поплыли следом, и он вынужден был вернуться. Бедняга долго носился туда-сюда в поисках подходящей башни, пока потерявшие терпение грызуны не обглодали его до костей прямо на берегу. Мотивом возвращения беглеца из плавания два века спустя воспользовался Длугош.
В "Путешествиях по Уэльсу" Гиральда Камбрийского (1146–1223) спящего молодого человека по прозвищу Длинные Ноги атакуют жабы, привлеченные его свисающими с кровати пятками. Убегая от мерзких тварей, несчастный взбирается на дерево, но жабы лезут за ним (здесь у Гиральда ошибка — скорей всего, жабы просто запрыгнули ему на ноги) и глодают его плоть.
Историю с жабами поведал также Цезарий Гейстербахский (1180–1240). Надеясь заслужить прощение, один кельнский ростовщик собрал полный ящик хлеба для раздачи нищим, а хлеб превратился в жаб и лягушек. Приходский священник посоветовал напуганному гневом Божиим грешнику провести в ящике ночь. Содрогаясь от омерзения, ростовщик забрался внутрь, а священник на всякий случай запер ящик на ключ. Наутро там белели косточки, а рядом лежали и стонали объевшиеся жабы [498].
Изложенные легенды, бесспорно, зависят друг от друга, но определить первоисточник не представляется возможным. Кто появился вначале — два Гаттона или два Попеля? Где укрывался беглец — на острове, в одинокой башне или в собственном замке? Кого первым осенила идея спрятаться в сундук или ящик, ставший гробом? Этот мотив наверняка связан с поверьем о ведьме, в чью могилу проникали в облике жабы и мыши нечистые духи, пришедшие за ее душой [499]. Вообще идея колдовства основательно похоронена под спудом назидательных резюме о каре небесной.
Тема народных обид в легендах о епископе Гаттоне и о немецких феодалах проистекает из датской и польской версий. В Дании народ был не обижен, а наказан голодом, но затем вину за преступление свалили на предателя, преследуемого мышами. В Польше трупы злодейски умерщвленных дядьев мстят сами за себя. В том же ключе многие толкуют феномен мышей из немецкой легенды. Мы помним, что в этих зверьков вселяются души мертвецов, а в нашем случае — души сожженных епископом крестьян.
Признаться, мысль Баринг-Гоулда о душе, воплотившейся в мышь, не понравилась мне еще в Гамельне. Душа принимает множество обличий. Сам же автор упоминает те случаи, когда изо рта спящего или умирающего выползает змея или вылетает пчела. У Афанасьева, Потебни и А.Н. Соболева можно найти аналогичные истории о ласточке, кошке, жабе, лягушке, ящерице, жуке, бабочке, мухе, летучей мыши, кукушке, муравье, павлине [500]. Если учесть весь этот террариум ("царство" Мефистофеля), на епископа должны обрушиться, по меньшей мере, казни египетские!
Баринг-Гоулд предположил, что корни легенд о мышах-людоедах кроются в человеческих жертвоприношениях, совершавшихся во время голода. Германцы и скандинавы часто приносили в жертву своих правителей. Обреченные на смерть люди (не обязательно преступники) отвозились на священный остров, например Рюген или Гельголанд, и оставлялись на съедение водяным крысам. Хозяином грызунов, а следовательно, патроном жертвователей выступал, конечно же, Один.
Исследователь указывает на примеры таких жертвоприношений у Снорри Стурлусона (1178–1241), Саксона Грамматика (1140–1215) и других авторов, не заостряя внимания на том факте, что никакого пожирания грызунами в этих источниках нет. У Снорри короля Дональда зарезают, а короля Олава Дровосека сжигают живьем. В "Хронике Датских королей" король Снио гибнет от волшебных перчаток, подаренных великаном-колдуном Лаэ: "Сначала он закричал, что кожу его рук поедают вши, затем завопил, что они едят его плоть, а когда он завизжал, что они едят его кости, перчатки упали с его рук, упал замертво и сам Снио" [501].
Снио не является жертвой, но для Баринг-Гоулда рассказ о его смерти — вероятный отголосок жертвоприношения, равно как и падение с лошади издевавшегося над крестьянами короля Свата из исландских саг. Этак любую скоропостижную смерть правителя (не только Попеля) можно списать на кровавый обряд. Рассуждения Баринг-Гоулда напоминают теорию его современника Фрэзера о периодически умерщвляемых и замещаемых царях, ответственных за урожай. Как и Фрэзер, он ссылается на весьма сомнительный обычай какого-то африканского племени, бросающего преступников муравьям, и говорит об утрате смысла обряда, в результате которой смерть от мышей посчитали возмездием за грехи [502].
Намеком на жертвоприношения мог бы служить мотив огня, но в легендах он довольно смутен. В одном случае аутодафе устраивает сама потенциальная жертва, в другом — огонь (пепел) содержится в ее имени, в третьем — она прибегает к его защите. Увы, от исходной версии ее интерпретаторы не оставили и следа, как мыши — от тел епископа Гаттона и короля Попеля.
Отверз ему пути дух хитрый ко всему…
Сумароков А.П. Волосок
Нас будут интересовать не христианские бесы, а предваряющие их духи. А значит, от легенд мы вновь обратимся к сказкам.
Небольшая сказка братьев Гримм "Дух в бутылке" (АТ 331) многим не кажется жуткой ввиду очевидного заимствования ее сюжета из арабских сказок. Но меня в детстве впечатлял именно гриммовский дух, а не джинны из "Тысячи и одной ночи". Виной тому — место встречи с ним: сумрачный и таинственный немецкий лес.
Сын бедного дровосека находит стеклянный сосуд, лежащий в ямке под корнями старого дуба. Прыгающее в нем существо кричит: "Выпусти меня!" — и юноша вытаскивает пробку из бутылки. "Вышел из нее какой-то дух и начал расти так быстро, что в несколько мгновений перед изумленным юношей предстало страшное чудовище, ростом с полдуба". Назвавшись "могущественным Меркурием", дух грозит сломать шею юноше, но тот обманом загоняет его обратно в сосуд. Дух вторично молит о помощи, а когда юноша его выпускает, дарит ему маленькую тряпочку, заживляющую раны и превращающую обычный металл в серебро. Герой делает свой топор серебряным и, добыв средства, получает образование и становится искусным врачом.
Дух в бутылке. Иллюстрация П. Хея (1935). Зубастый джинн с рожками плотоядно глядит на юного дровосека, а тот мужественно подпирает свои бока
Эта сказка была одной из тех, чью концовку авторы изменили, дабы не смущать читающую публику. В первоначальном варианте полученная от духа тряпочка не идет юноше впрок. Он не работает, без устали тратит деньги и, в конце концов обманутый духом, занимает его место в бутылке. Довольно странный исход, если учесть, что сюжет о рыбаке из "Тысячи и одной ночи" курсировал в немецкоязычных землях практически без искажений. Напомню его читателю.
Бедный рыбак вылавливает из моря медный кувшин и распечатывает его. Из горлышка поднимается густой дым, постепенно концентрирующийся в безобразного ифрита (джинна). Это джинн Сахр, которого запер в сосуде царь Сулейман бен Дауд (Соломон, сын Давида) за отказ принять ислам. Он слишком долго ждал освобождения (минимум 700 лет), и теперь лучшее, на что может рассчитывать его спаситель, — выбрать, какой смертью умереть. После уловки с обратным влезанием в кувшин джинн, освобожденный вторично, награждает рыбака уловом разноцветных рыб, которые тот продает султану. Жарящиеся на сковородке рыбы беседуют с красавицей и черным рабом, вышедшими из стены (обычный способ появления волшебных существ в арабских сказках), чем приводят в замешательство султана и его визиря.