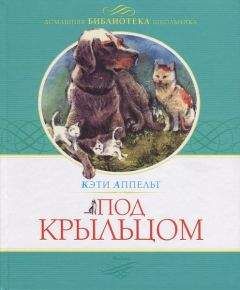Деревья тоже обмениваются посланиями. Бук и тополь, остролист и дикая слива на своём языке передавали друг другу новость — у детишек трёхцветной кошки, у её сына и дочки, появились имена.
Глубоко-глубоко под землёй вдруг дрогнули корни умирающей мексиканской сосны, оплетавшие старинный горшок. Сын… Дочка… Древняя тварь шевельнулась в своей глиняной тюрьме.
Дочка. Когда-то и у неё была дочка. Кра-ссссса-вица! Праматерь никогда не забудет её, свою дочку, которую она любила сильнее всего на свете. Сильнее, чем нежную ночную прохладу. Сильнее, чем эту тёплую топкую пойму. Сильнее, чем солёную морскую воду. И даже сильнее того человека, своего мужа. Гораздо сильнее. Дочку похитили у матери, пока та спала. Праматерь яростно хлестнула хвостом по толстой глиняной стенке своей тюрьмы.
— Рас-сссс-плата… — прошипела она. — Скоро наступит расплата.
18
Сабина и Пак родились и выросли под крыльцом. Это место было для них родным домом. Другого дома у них не было. Здесь они отдыхали, уютно прижавшись к маме и Рейнджеру, а вечером, когда было пора отправляться спать, оно превращалось в царство сна и сладких грёз. И здесь же был кошачий диснейленд, где котята устраивали весёлую возню. В диснейленде, как положено, были игрушки и аттракционы. Вот, например, старый, потрескавшийся сапог. А вот пара полусгнивших деревянных ящиков, которые давным-давно засунули сюда и, конечно, позабыли про них. А ещё тут были пустые бутылки, картонные коробки — словом, множество всякой всячины. Тут можно было играть в прятки или в альпинистов. Карабкаться, залезать наверх, падать вниз. Устраивать засады и неожиданно нападать из-за угла. Тёмное пространство под крыльцом покосившегося дома было не таким уж маленьким. Порой мама-кошка и старый гончий пёс теряли котят из виду. Это их тревожило. Они отлично знали: если Барракуда обнаружит котят, пощады им не будет. И они внушали малышам:
— Не выходите из-под крыльца! Под крыльцом вы в безопасности. Никогда, что бы ни случилось, не выходите в Большой Мир.
Это было железное правило: под крыльцом вы в безопасности.
Для Пака и Сабины слово «Барракуда» значило просто шум, который раздавался у них над головами. Грохот грубых ботинок по ступеням крыльца по вечерам, когда человек уходил в лес, и по утрам, когда он возвращался обратно.
Они знали эти звуки. Они давно привыкли к ним. Он всегда покидал дом на закате — иногда уезжал на стареньком пикапе, а иногда отправлялся куда-то пешком. И всегда возвращался на заре, перед восходом солнца.
Обычно по утрам он кормил Рейнджера. Кошка ждала, когда наверху, в доме, стихнут тяжёлые шаги, и тогда пёс приглашал её разделить с ним скромную трапезу. Она выползала из-под крыльца и подбегала к миске. Стараясь есть как можно быстрее, она всё время оборачивалась, чтобы бросить взгляд на котят и убедиться, что они крепко спят. Сначала ей надо поплотнее поесть, а потом она позаботится и об их пропитании.
Но иногда Барракуда забывал покормить Рейнджера. А может, и не забывал, а просто не хотел его кормить. Тогда Рейнджер приглядывал за котятами, а кошка отправлялась в лес. Она была ловким и опытным охотником и часто приносила домой добычу — жирную крысу или остренькую ящерицу. Конечно, для такой большой собаки, как Рейнджер, этого было маловато, но он никогда не жаловался. Он был благодарен кошке. Ведь крыса или ящерица — это лучше, чем ничего. Лучше, чем пустая миска. Когда кошка уходила на охоту, он тоскливо смотрел ей вслед. Он был бы рад отправиться вместе с ней, но на шее у него была цепь. Толстая цепь, которая приковывала его к крыльцу.
Сколько времени миновало с тех пор, когда он свободно бегал по лесу? Сейчас он, скорее всего, уже не ушёл бы далеко на своих старых, больных лапах. Особенно плоха была та, в которую попала пуля. Но, может быть, он всё же смог бы немного поохотиться здесь, неподалёку. Может быть, он поймал бы белку, или енота, или кролика и принёс бы их домой. Своей семье. Ведь под крыльцом жила его семья. Очень необычная семья — старый гончий пёс, брошенная трёхцветная кошка и два крошечных сереньких котёнка.
19
Деревья охотно становятся домом для зверей, птиц и насекомых. На их ветвях живут корольки и малиновки. Скунсы и кролики селятся в норах под их корнями. Под их толстой корой прячутся жуки и муравьи.
Старая мексиканская сосна на берегу ручья, та самая, в которую четверть века назад ударила молния, тоже была домом для многих лесных жителей. Теперь она стала вдвое ниже ростом. Верхние этажи огромного дерева постепенно отламывались и падали на землю. Кора, некогда твёрдая и прочная, день за днём размягчалась, и под неё легко проникали личинки, насекомые и прочие мелкие существа — мыши-полёвки, хвостатые саламандры.
Громадная сосна веками была домом для самых разных животных. Здесь выросли многие поколения лесных обитателей. Они селились в ней целыми семьями. Но теперь почти все они покинули свой старый дом. Только один жилец всё ещё оставался на прежнем месте — огромная древняя тварь, что ждала своего часа глубоко под землёй, там, где туго сплелись корни.
Она по-прежнему была там, внизу.
Там, внизу, в своём разукрашенном глиняном горшке.
Там, внизу.
20
У деревьев долгая память. Хранилище их памяти — узловатые наросты на коре, древесина, ствол, что с каждым годом делается всё толще. Деревья могут рассказать о том, что было тысячу лет назад, до того как Праматерь оказалась в глиняном горшке. Тогда она бесшумно скользила по ветвям вязов и тенистых каштанов. Тысячу лет назад она была так же стара, как и этот лес. Пение птиц и стрекот цикад наполняли её дни. Ночами она нежилась в серебристом лунном свете, купалась в прохладной тинистой воде протоки. Порой она дремала, устроившись на широкой спине какого-нибудь аллигатора, который, словно большое бревно, плыл по течению вдоль болотистых берегов. Обычно это был гигантский аллигатор. Царь-аллигатор. Он был гораздо больше остальных своих сородичей.
— Сестра, — звал он её.
— Брат, — откликалась она.
Брат и сестра. Рептилии. Обитатели и суши, и воды.
Как часто в знойный полдень они дремали рядом, растянувшись на топком берегу Большой песчаной поймы. Иногда он приносил ей сома, добытого с речного дна, а она угощала его кроликом или лисицей.
— Спасибо, сестра, — почтительно говорил он, любуясь её чешуёй, которая ярко горела на солнце.
Она тоже благодарила его, глядя прямо в его немигающие золотисто-жёлтые глаза.
И всё же, несмотря на дружбу с Царём-аллигатором, Праматерь, гигантская мокасиновая змея, предпочитала общество ближайших родственников. Здесь, в этих заболоченных лесах, водилось великое множество змей. Миллионы змей — ядовитых и неядовитых. Но все они были другой породы. Никто из них не принадлежал к её древнему роду. В этих лесах больше не было ни одной ламии[2].
Ламия — полуженщина, полузмея.
Её кровь может быть то тёплой, то холодной.
Змея.
И женщина.
Ш-ш-ш-ш-ш-ш…
Тысячу лет назад в этом лесу жили люди. Люди племени каддо. Праматерь видела их деревню на берегу ручья. Она видела, как они сидели у воды, пели, танцевали и играли со своими детьми.
Люди.
Праматерь хорошо знала людей.
Неужели когда-то она была влюблена в одного из сынов Адама?
Неужели ради него она сбросила свою иссиня-чёрную змеиную чешую и надела человеческую кожу — нежную и гладкую? Неужели она отдала этому мужчине своё сердце?
У змей длинная память. Праматерь ничего не забыла. Она помнила всё.
Помнила, как его руки обнимали её. Помнила его голос. Она любила его всей душой. Ради него она отказалась от своих братьев и сестёр, от своего тюленьего народа, что обитает в тёплых серебристых морях. Ради него она отказалась от всего, что было ей дорого.
А он предал её. Он оставил её, чтобы обнимать другую женщину.
Ш-ш-ш-ш-ш-ш!
Это она тоже помнила.
Когда она думала об этом, её пасть наполнялась горьким ядом. Она жила среди людей. Она узнала их. Узнала любовь и предательство. И тогда она снова надела змеиную кожу и неслышно скользнула в тёплое Эгейское море. Она навсегда покинула предателя и его народ. Долгие века она провела в морях и океанах, стараясь держаться подальше от земли — от берегов Африки и Майорки, от пляжей Бразилии и скалистых обрывов Ньюфаундленда, от Уэльса и Тихоокеанских островов. Подальше от людей.
Она знала, что, раз вернувшись в обличье животного, древние оборотни, такие, как она, никогда не смогут больше стать людьми. Это нерушимое правило, у которого нет исключений. И Праматерь была рада этому. Она навеки осталась мокасиновой змеёй. Она предпочла своих родичей-рептилий обществу людей.