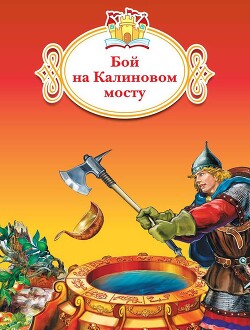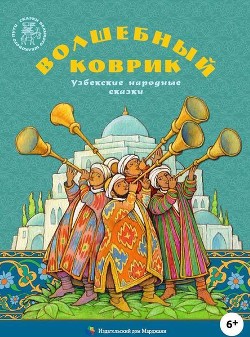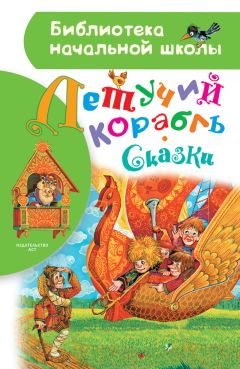На первый взгляд может показаться, что героические сказки несколько однообразны. Схожие герои и злодеи (Иван-царевич и его братья, Баба Яга, Кощей), сходные ситуации (поиски похищенной невесты, единоборство с посланцами темных сил и т. д.), одни и те же словесные обороты («Конь бежит, спотыкается, трава к земле пригибается»). Но однообразие это кажущееся. Вспомним, что повторы, устойчивые образы и сравнения — краеугольные камни народной поэзии. Они огранены временем. Тут ни убавить, ни прибавить — все дышит гармонией и мерой, все емко, возвышенно, а главное, художественно достоверно. Народ ничего не выдумывал. Народ рассказывал только о том, чему верил, и потому даже в сказаниях своих о чудесном с верным художественным тактом остановился на повторениях, а не дал своей фантазии произвол, легко переходящий должные границы и увлекающий в область странных, чудовищных представлений, как верно подмечено ещё А. Н. Афанасьевым. Подчеркнем: представлений чудовищных, безобразных. Между тем граница, черта, разделяющая чудовищное, безобразное, по одну сторону, и страшное, ужасное — по другую, порою необычайно тонка. Но народ-сказитель всегда явственно различает эту черту внутренним зрением, тем недреманным оком души, имя которому — сострадание.
Какие бы невероятные события ни происходили в сказке, зло и неправда должны быть в ней наказаны, уничтожены, посрамлены. Словно герой античных трагедий, сказочный герой (как правило, это обездоленный младший сын) становится «воплощением социальных сил, защищающих справедливость» (Е. М. Мелетинский). Он начисто лишен всякой пошлости, зубоскальства, слащавости, сентиментальности, иронии. Ведь его жизненное предназначение — наказание порока, низложение зла.
Во имя этой благородной цели он подвергает себя неисчислимым бедствиям. Терпит нужду и всяческие лишения. Не раз оказывается на краю гибели. Но вопрос: а не поступиться ли правдой? — для него, кажется, невозможен вообще.
Нет, не случайно в более чем трети всех волшебных сказок главный герой наделен самым распространенным на Руси именем — Иван (это легко заметить и по нашему сборнику). Иван, крестьянский сын, Иван Вечерней Зари, Иван-царевич — все это один и тот же персонаж, характер его и поведение неизменны в одних и тех же ситуациях. Он — подвижник Правды, Красоты, Справедливости, он — деятель и потому-выразитель народного нравственного начала. Глубоко прав советский критик В. Кожинов, считая, что «нравственная ценность осуществляется не в каком-либо благом пожелании, но только в поступке, в деянии, которое к тому же неизбежно совершается в безнравственном или хотя бы в недостаточно нравственном мире, ибо иначе такое деяние и не имело бы смысла… Герои, не совершающий самостоятельных и целеустремленных поступков, по существу вообще оказывается как бы вне нравственности. Он способен только рассуждать о нравственных вопросах». [100] Сказано это о герое современной реалистической литературы, но целиком и полностью применимо к герою волшебных сказок.
…Вот одолевает Иван-богатырь змея многоглавого, вот царство чудесное со златом, серебром, со скатертью-самобранкой распростерто у ног победителя да в придачу царевна, краса ненаглядная. Казалось бы, чего ещё душе надобно? Черпай обеими горстями, удачливый странник, красуйся до земного исхода на вершине успеха. Ай нет. Помнит, видно, герой древние заветы: и то, что злато-серебро суть крылышки драконовы, не более, и что «хоть мошна пуста, да душа чиста», а «как нет души, то что хошь пиши», и что «за морем веселье, да чужое, а у нас и горе — да свое». В общем, не затуманивают ему заморские блага образ родимой земли, куда ему обязательно предстоит, возвратиться. Таков этот простодушный, незлобивый, житейский нерасчетливый Иванушка, ни при каких обстоятельствах не прибегающий к помощи зла. Ибо зло хоть и порождает зло, да зато само же себя и губит. Какой же силой духа надобно обладать, каким благородством быть наделенным, чтобы в ответ на коварные заискивания чудища: «Ну что, Иван-царевич» биться пришел со мною или мириться?» — ответствовать: «Где уж там мириться! Биться с тобою, с Иродом-проклятым!» И, кстати, отдать право первого удара врагу. Иногда не обходится, ясное дело, и без одурачивания врага, но наш Иван и при этом скорее искусен и мудр, нежели злостен и коварен. О многом, между прочны, говорит тот установленный наукой факт, что определяющее свойство характера главного героя в русском сказочном эпосе — храбрость, обусловленная силой духа, «это та самая сила духа, которая приводит наш народ к победе» (В. Я. Пропп), в западноевропейском — хитрость…
Парадоксально, но в России сказка стала книжным достоянием лишь под влиянием пришедших с запада «рыцарских» галантных историй, авантюрное-рыцарского романа. «Ни писатель-псевдоклассик, ни ученый ХVIII века не могли, разумеется, взяться за записывание и печатание произведений народной словесности: вкусам первого претила простота народного творчества, в понятиях второго наводная словестность не имела никакой ценности, ибо наука ХVIII века… также не придавала этой словестности никакого значения»[101] — писал в своем обширном труде по истории собирания и изучения сказки С. В. Савченко. То, что появлялось на книжном рынке, в том числе и переписываемое от руки, например, «Евдон и Берфа», «Поленцион Египетский», «Василий, королевич Златовласый», «Похождения Готтентота, или дикого Африканца, писаные им самим», «Низверженный Зезул, образец злобы или Жизнь и редкие приключения восточного принца Клеоранда и принцессы Зефиры», — эти и тому подобные сочинения, разумеется, в какой-то мере удовлетворяли страсть широкой публики к чтению. Но они же и вызывали многочисленные подражания. Русскую волшебную сказку принялись переиначивать, уродовать, подделывать под западные образчики. Этим и объясняется, почему даже в лучших сказочных сборниках той поры, таких, как «Лекарство от задумчивости и бессонницы», «Сказки русские» П. Тимофеева, «Старая погудка на новый лад», ещё чувствуется подчас желание следовать заемной моде. Хотя эти книги — уже не сочинение сказки «под фольклор», каковыми были, к примеру, сборник М. Чулкова «Пересмешник» (1766–1768) или В. Левшина «Русские сказки» (1780–1783), а пересказ народной сказки, как бы имитация записи от исполнителя. Однако пройдет ещё целых полстолетия, прежде чем в публикуемых текстах зазвучит живая речь сказителя со всеми её морфологическими, диалектными, фонетическими особенностями.
Первым призовет к собиранию и записыванию сказок Василий Андреевич Жуковский, учитель Пушкина, и гениальный его ученик станет чутко вслушиваться в народный говор на ярмарках, почтовых станциях, народных гуляньях, будет сам обрабатывать и сочинять сказки. Традицией же научного собирания сказки мы обязаны все тем же А. Н. Афанасьеву и И. А. Худякову, великим подвижникам русского слова. Не прожив и пятидесяти лет, Афанасьев сумел совершить казалось бы невозможное.
Он собрал воедино свыше 600 текстов сказок (не считая вариантов) из десятков областей России, Украины, Белоруссии — до сих пор никем в мире не превзойден этот труд. И не только собрал. В своем трехтомном сочинении «Поэтические воззрения славян на природу» он попытался на сотнях примеров объяснить живую связь сказки с историей, действительностью, природой.
Природа… Для древнего человека она выступала сразу в нескольких ипостасях. Заботливая мать-кормилица. Целительница. Защитница от внешних врагов. Ниспосылательница всеразрушительных стихий. В сказке «Цветы, деревья, насекомые, птицы, звери и разные неодушевленные предметы ведут между собой разговоры, предлагают человеку вопросы и дают советы, — писал Афанасьев. — В шепоте древесных листьев, свисте ветра, плеске волн, шуме водопада, треске распадающихся скал, жужжании насекомых, крике и пении птиц, реве и мычании животных — в каждом звуке, раздающемся в природе, поселяне думают слышать таинственный разговор, выражение страданий или угроз, смысл которых доступен только чародейному знанию вещих людей».