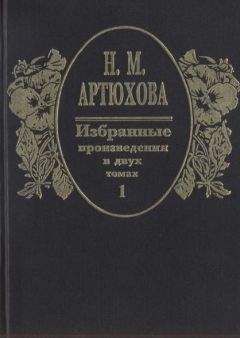Она такая легкая, что даже папа, у которого сердце и одышка, может подбрасывать ее довольно высоко, сажать себе на плечо, катать на коленях.
— Папа, и меня, — просит Леля.
Папа берет ее под мышки и старается подбросить.
— Под самый потолок!
Но получается не то. Леля — длинноногая и тяжелая, потолок высоко, у папы — сердце.
Мама расчесывает перед зеркалом короткие, очень светлые кудряшки.
У Татки такие же.
Леля смотрит на маму.
— Мама, ты красишь волосы?
В зеркале удивленное мамино лицо.
Она смеется:
— Нет, Леля. Почему ты думаешь, что я крашу?
— Ведь у тебя они прежде черные были!
Мама целует Лелю особенно ласково.
— Нет, Олечка, они у меня всегда такие.
— Папа, ты был летчиком в молодости?
Евгений Александрович переглядывается с Мусей и гладит темные Олины косички.
— Нет, Олечка, какой же я летчик? Меня ни один самолет ни поднимет. Да и сердце у меня…
Но ведь не всегда же у папы было сердце… Может быть, просто он забыл. Это часто бывает: хочется вспомнить что-то, а не можешь. Леля перелистывает альбом с фотографиями.
— Папа, это я?
Евгений Александрович заглядывает через ее плечо.
— Ты, Леля. — И берет своей толстой рукой Лелю за подбородок. — Как она изменилась за эти три года, правда, Муся? Просто узнать нельзя. Светленькая была — и мордочка совсем не такая.
Да, в этом возрасте дети меняются очень быстро. Они — как цыплята. Уютный, кругленький желтый цыпленок в пуху, — и вдруг из него вырастает совсем другой — длинноногий, тонкий, коричневый, с перышками…
На снимке Леля сидит на коленях у Муси, а Евгений Александрович рядом с ними.
— А Татки тогда еще не было?
— Татки не было.
— Это в Москве или в эвакуации?
— В эвакуации.
Леля знает два города: Москву и эвакуацию.
Эвакуация — меньше, но квартира там была большая, как сарай, и дощатые стены пахли смолой. Много было сверчков.
Москва — большая, даже огромная, а квартира гораздо меньше, чем в эвакуации, но лучше. Есть ванная и газовая плита в кухне, а стены гладкие, выкрашены голубой масляной краской.
В эвакуации было тихо. А в Москве почти каждый вечер салюты.
Когда Леля услышала салют в первый раз, она испугалась так, что дрожала всем телом, даже зубы щелкали.
Евгений Александрович схватил ее на руки и долго не мог успокоить.
Теперь Леля привыкла.
К тому же салюты совсем не страшные, очень красиво взлетают ракеты, как яркие цветы над синим городом.
Было даже немного стыдно, что Леля — большая — испугалась, а маленькая Татка не боялась нисколько.
Леля привыкла и стала радоваться вместе со всеми, когда салюты. Помогала Евгению Александровичу переставлять булавки на картах.
Карта сначала висела одна — маленькая, белая, вырезанная из газеты.
А потом Евгений Александрович принес другую, большую, из двух половинок, раскрашенную.
Он сказал, что теперь маленькой уже недостаточно.
На этой карте была нарисована Германия, похожая на какого-то синеватого зверя с лапами и отрезанной головой. А на голове — крючковатый нос и острое ухо кверху.
Леля спросила, почему синее идет не подряд, и Евгений Александрович объяснил, что это польский коридор. После каждого салюта Евгений Александрович измерял линейкой расстояние от передней булавки до Берлина.
Булавки наступали с каждым днем, цепко и неуклонно. Но расстояние все-таки еще было большое, даже на карте.
Вечер. Широкий золотистый абажур над столом.
Муся сидит на диване, поджав под себя ноги, подперев ладонями подбородок, и читает книжку.
— Мусенька, чайник закипел.
Евгений Александрович ставит его на стол.
— Ах, ты уже «уткнулась»? Ну, ничего, я заварю.
Леля прыгает на стул и достает из буфета чашки, хлеб и — если есть — что-нибудь «вкусненькое».
— А где наша замоскворецкая купчиха?
Так зовут Татку за то, что она очень любит чаевничать.
Чаю, впрочем, ей дают мало, — так, для вида, покапают немного в теплое молоко.
Молоко тоже только что вскипело, Евгений Александрович наливает девочкам на блюдце.
Тата выпивает две чашки и отодвигает блюдце.
— Уф! Даже глазки вспотели!
Леля вытирает ей платком ротик и под глазами. У Татки сразу становится осовелое лицо.
Муся торопливо переворачивает страницу.
— Леля, — говорит Евгений Александрович, — ты бы маме хоть сухариков дала. Ведь ей не до того, она у нас на самом интересном месте!
Леля относит маме два сухаря. Сухари похрустывают, страницы так и мелькают.
Татка положила на скатерть розовую круглую щеку.
— Мусенька, а девочкам спать пора. Тебе много еще осталось самого интересного?
Муся захватывает пальцами оставшиеся страницы. Их немного.
Леля тормошит сестренку:
— Погоди, не спи, мама сейчас кончит.
Наконец книжка захлопывается с треском. Муся выпрямляется, вытягивает ногу в коричневом чулке (отсидела!) и встает с дивана.
— Хорошо кончилось? — спрашивает Леля.
— Хорошо.
Муся не любит книг, которые кончаются плохо: плохого и грустного в военное время и без книг достаточно.
Но книжка кончилась хорошо, настроение у Муси бодрое, она энергично принимается хозяйничать.
Берет одной рукой поперек животика сонную Татку — толстые ножки свисают сзади — и несет ее в ванную комнату, розовой мордочкой под умывальник. Леля умывается сама.
Через пять минут девочки уже лежат в кроватях.
— Спокойной ночи, Леля.
Сначала мама целует Лелю, потом Тату.
И остается посидеть у Таткиной кровати. Татка любит, чтобы ее подержали за руку, когда она засыпает. Маленькая еще. Сидят у маленьких. У больших не сидят. Что же сидеть у больших? Большие должны засыпать сами.
Леля закрывает глаза.
Ночь.
VIII
А ночью все совсем по-другому.
Ночью снятся сны.
Веселые, просто обыкновенные или страшные сны.
Во сне все по-другому.
Никогда Леля не видит во сне московской квартиры с крашеными стенами.
И не видит квартиры, которая была в эвакуации.
Во сне еще какая-то третья квартира, всегда одна и та же. Комната со светлыми полосатыми обоями.
Окно не такое широкое, как в Москве, но зато оно раскрывается все, можно распахнуть обе его половинки.
Круглый стол, покрытый пестрой скатертью.
Иногда Леля видит его сверху.
Во сне люди делают странные вещи. Иногда Леле снится, что она аэроплан и пролетает над этим столом.
Снится, что она маленькая и легкая, что кто-то держит ее на руках. Это папа.
Но Леля не видит его лица.
Иногда папа надевает кожаный шлем, как летчики.
И во сне он совсем не толстый, даже очень ловкий: может вдруг перекувырнуться и пройтись на руках.
Это веселый сон.
А у мамы во сне не светлые кудряшки, а длинная черная коса.
Она заплетает ее, сидит у Лелиной кровати и напевает что-то тихим и ласковым голосом.
Это приятный сон.
Бывают страшные сны. Даже не сны, а сон. Страшный.
Один и тот же.
Леле снится, что она потеряла маму.
Широкое ровное поле.
Поезд, вагоны. Но они не стоят на рельсах, а лежат как-то странно, боком.
Мамы нет, Леля одна.
Из вагонов слышится тихое, жалобное пение, похожее на стон.
Леле хочется крикнуть: «Мама!» — крикнуть так громко, чтобы услышал кто-нибудь, по-настоящему, не во сне.
Чтобы проснулись, подошли к ней.
Голоса нет. Она кричит, никто ее не слышит.
Она открывает глаза.
В комнате тихо. Все спят.
Можно позвать сейчас. Но ведь она уже проснулась. Жалко будить.
В комнате совсем-совсем темно: черные занавески прикалывают плотно.
Страшно смотреть в темноту.
Страшно закрыть глаза и опять увидеть этот сон.
IXЕвгений Александрович принес девочкам «вкусненького» — два мандарина и две конфеты.
Мандарины совсем одинаковые.
Один взяла Леля, другой — Тата.
И конфеты одинаковые, но с разными картинками. На одной — самолет, на другой — собачка.
— Мне с самолетом, — сказала Леля.
Но Татка была как попугай.
— Мне с самолетом, — повторила она и потянулась к картинке.
— Тата, возьми с собачкой, ведь тебе все равно. Ведь все равно ты разорвешь картинку! — просила Леля, не выпуская из рук конфеты.
— Дай! — требовала Тата, протягивая все десять растопыренных пальчиков.
— Уступи ей, Леля, ведь она маленькая, — сказала Муся.
Леля ответила горячо:
— Я всегда-всегда ей уступаю! Ну, почему она хоть один разочек не может уступить?
— Вот что, Таточка, — сказал Евгений Александрович, — ты Лелю не обижай. Леля у нас хорошая и всегда тебе уступает. Ей нравится самолет — пускай берет самолет. А ты возьми собачку. По-моему, собачка гораздо лучше самолета. Ты посмотри только, какая хорошенькая картинка!