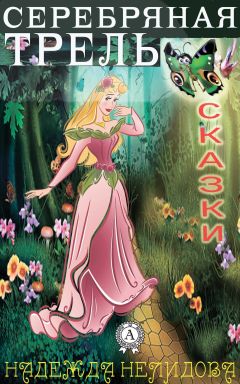Яковлев Юрий
Тяжелая кровь
Юрий Яковлевич ЯКОВЛЕВ
Тяжелая кровь
У нас с сыном глаза серые, с едва заметными крапинками. В ясный летний день от травы и листьев крапинки становятся заметнее и глаза зеленеют. В пасмурные дни глаза серые - крапинки пропадают совсем. У сына припухшие веки, а ресницы редкие, острые, как обойные гвоздики. Смотрит он исподлобья, потому что у него привычка слегка наклонять голову вперед, как бы желая коснуться подбородком ямочки между ключиц.
Глаза сына смотрят на меня, хотя самого его давно нет рядом. И вот уже сколько лет я всматриваюсь в них, хочу прочесть ответ на вопрос, мучающий меня всю жизнь, начиная с того далекого страшного дня.
В отличие от других дней моей жизни этот не затерялся во времени, не отстал в дороге - он всегда рядом, как вчерашний день. Его краски четко стоят у меня перед глазами. Звуки не замерли. Каждое слово, крик, выстрел, шелест травы, хруст гравия под сапогами, трель какой-то маленькой пичуги звучат во мне. Этот день неизмеримо больше всех остальных, он стоит за моей спиной, прирос к моей спине, как тяжелый уродливый горб. Я чувствую его, как свои руки, лицо, плечи, грудь. Он болит. И снова - в который раз! - я напряженно всматриваюсь в глаза сына и силюсь прочесть, что застыло в них: горькое недоумение или понимание, упрек или прощение? Я подхожу к зеркалу - глаза сына смотрят на меня виновато, хотя они ни в чем не виноваты. Постойте! Это не его глаза. Это мои. Это они смотрят виновато. Я надеялась увидеть его глаза, а увидела свои собственные...
Когда я возвращаюсь в тот день, меня оглушает звенящий визг лесопилки. Лесопилка работала у нас в городе и до прихода фашистов. Но мы не замечали ее, привыкли к ней, как к дробной поступи проходящих поездов. Когда звуки мирного города умолкали, визг лесопилки обнажался. Казалось, немцы только и делали, что пилили.
Сперва мой сын говорил:
- Лесопилка не дает мне спать.
Потом он стал говорить:
- Лесопилка не дает мне жить.
Она не давала ему жить, хотя он работал на этой лесопилке и получал за это хлеб.
И еще появилось совершенно новое гадливое ощущение, которое возникло при встрече с гитлеровцами. Что-то среднее между отвращением и страхом. Оно проходило по телу тупой, знобящей волной, как бывает, когда ненароком наступишь на змею.
Однажды мой сын вернулся с работы и сказал:
- Неужели так будет всю жизнь?
Я сказала:
- Когда кончится война, все будет по-прежнему.
Он покраснел и еле сдержал свое раздражение.
- Когда кончится война?! Ведь бывали в истории столетние войны. Было татарское иго - триста лет! Так, мама, и жизни не хватит ждать, пока она кончится.
Через несколько дней он сказал:
- Так невозможно жить. Мы совсем не приспособлены к такой жизни... Меня сегодня толкнул солдат. Я сжал кулаки и так побледнел, что он испугался. Он подумал, что я на него брошусь, и сорвал с плеча винтовку.
Рассказ сына очень встревожил меня. Я сказала:
- Будь осторожен, сынок. Там, где наготове оружие, надо быть осторожным.
- Знаешь, мама, - сказал он, - я боюсь, что в другой раз не смогу сдержаться. Видимо, помимо обычной воли, у человека есть высшая, которая не слушается ни страха, ни разума.
- Надо сдерживаться, чтоб жить.
- Так жить не хочется. Неужели ты этого не понимаешь, мама?
Я промолчала. Я все понимала, но не хотела разжигать того огня, который мог сжечь его самого.
Однажды мы шли с ним по городу. У базара на длинной скамейке сидело человек пятнадцать солдат. Вытянув ноги, они грелись на солнышке и перебрасывались словечками. Когда мы проходили мимо, гитлеровцы бесстыдно уставились на меня. Я почувствовала на себе липкое прикосновение их взглядов. Сына передернуло. Он сильно сжал мою руку и долго шел молча. Потом спросил:
- Мама, ты могла бы убить человека?
- Господь с тобой! - Я испуганно посмотрела на сына. Его спокойствие испугало меня. И я спросила: - А ты мог бы?
Он ответил:
- Нет! Человека нет, но фашиста...
В нем что-то созревало. Проходила какая-то скрытая работа. Что-то погибало, что-то рождалось. Он готовил себя к страшному и неизбежному.
- Я прошу тебя, мой мальчик... Освободись от этого.
Он опустил голову.
- Ты не знаешь еще, что такое опьянение кровью, - продолжала я. Вокруг слишком много легкой крови.
- Что такое легкая кровь? - спросил он.
- Безнаказанная... Сперва человек страшится ее. Потом становится к ней равнодушным. Потом входит в раж и начинает пьянеть от крови.
- Как тигр?
- Может быть, пострашней тигра. В человеке просыпается существо, разумно жаждущее крови, двуногий тигр - фашист.
- Я понял тебя, мама. Я это чувствовал, но не мог понять. Теперь я понял - их надо убивать, как тигров-людоедов. В Индии на тигров, отведавших человеческой крови, идут целыми селениями.
Я испугалась его слов. Сама не желая того, я навела сына на мысль, от которой хотела его уберечь. Мне стало не по себе. Я попробовала дать отбой - ничего не вышло с отбоем.
В последний раз, уходя на лесопилку, он сказал:
- Я, может быть, задержусь, ты не волнуйся.
- Где ты задержишься?
- На работе, - ответил он.
Он был спокоен. И я решила, что он спокоен потому, что не с чего волноваться. Но он уже не принадлежал мне. Полностью и безраздельно принадлежал он новому, страшному делу. И уже не могло быть ни отступления, ни перемены намерений.
Я этого не поняла. Не почувствовала. А если бы поняла? Что бы я сделала? Преградила бы ему дорогу?
Когда визг лесопилки неожиданно оборвался и стало непривычно тихо и покойно, я почувствовала что-то недоброе. Смутная догадка подсказала мне, что происшедшее связано с моим сыном. Я побежала на лесопилку. Над ней стоял дым. Тревожно алели пожарные машины. Лесопилка была оцеплена солдатами. Я подошла к воротам, сказала, что у меня там работает сын. Мне ответили, что там сейчас никто не работает. Где же все? Одних арестовали, других разогнали по домам. Лесопилка не работает. Произошла авария.
Наверное, сына прогнали домой и мы разминулись с ним. Так я подумала и побежала обратно. Дома его не оказалось. Я стала ждать. Остаток дня. Вечер. Ночь. Весь огромный мир уплотнился, сузился. В эту ночь не существовало ни мужа, ушедшего на фронт в первый день войны, ни школы, где я работала, ни моих учеников, не было ни сна, ни голода - только сын в фокусе всего моего существа.
Не знаю, как я дождалась утра, сколько раз выбегала за ворота, прислушивалась: не зазвучат ли вдалеке его шаги. Город спал. Как ночная, бессонная птица, металась я и ждала, когда пройдет комендантский час и можно будет бежать ему на помощь, а когда я наконец очутилась в комендатуре, мне сказали:
- Ваш сын приговорен к казни.
Я прислонилась к стене. Потом собралась с силами.
- Можно мне видеть коменданта?
Меня пропустили. Комендант сидел на табуретке. На нем был только один сапог. Другой он держал в руке и придирчиво осматривал.
Комендант, вероятно, страдал лихорадкой, потому что его лицо было желтым и на нем проступали следы недосыпания и усталости. Под глазами начинали вырисовываться темные мешки. Выпуклый лоб, глаза слегка навыкате.
- Пожалуйста, - сказал он, - садитесь.
И отшвырнул в сторону сапог.
- Мне все время кажется, что у меня в сапоге гвоздь. Но никакого гвоздя нет. Болит старая рана.
- Вы были ранены? - пытаясь быть участливой, спросила я.
- В Испании, - ответил он. - Позорное ранение, в пятку. Смешно, не правда ли?
Его лицо как-то искривилось в улыбке. Но я не ответила на его улыбку то ли от волнения, то ли опасаясь обидеть его. Я спросила:
- Болит?
- Нет, не болит. Но все время кажется, что я наступаю на гвоздь. Солдатские раны на войне лучше всего врачует смерть, - вздохнул он. - От скольких неприятностей избавляет она солдата.
- Разве вы не хотите жить? - спросила я.
- Хочу. Но меня никто не спрашивает об этом. Мне никто не предлагает выбора. Вчера ваши партизаны застрелили нашего солдата. Он тоже не хотел умирать, но его никто не спрашивал. У него не было выбора. Что вы на это скажете?
- Ни одна мать никогда не смирится со смертью, - сказала я.
- Наши матери далеко, - он вздохнул. - Расстояние и время смягчают удар.
Я покачала головой. Комендант поднялся, сделал несколько шагов, прислушиваясь к своей боли. Его ни разу не кольнуло.
- Когда хожу босиком - все в порядке, - сказал он. - Стоит надеть сапог - колет. И никакого гвоздя нет. - Он вдруг остановился, поднял на меня глаза и спросил: - У вас ко мне дело, госпожа учительница?
Я испуганно посмотрела на него и прошептала:
- Я пришла умолять вас о моем сыне!
- Умолять? О сыне? Ему надо помочь?
- Он приговорен к казни.
Мейер вытер лоб ладонью.
- Он работал на лесопилке...
- Ах, лесопилка! - Он как бы вспомнил о лесопилке. - И ваш сын... Понимаю, понимаю...
Я не могла взять в толк - издевается он надо мной или сочувствует. Хотела думать, что он сочувствует. Смотрела на него глазами, полными слез.