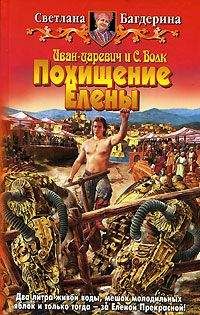Второй член судилища, в пенсне, деловито рассовывал по карманам портсигар, часы, складывал лежавшие перед ним бумаги, на которых он во все время суда рисовал женские головки с падающими на плечи кудряшками... Этот, наверно, желчен и зол, и дома все у него ходят по струнке, когда глава семейства не в духе, когда он проигрывает своим собутыльникам в преферанс лишнюю красненькую или когда у него с перепоя трещит голова...
"Так что же, Якутов? - снова прозвучал благожелательный голос председательствующего. - Мы охотно допускаем, что вы - только слепое орудие смуты, которую сеют в государстве враги правопорядка - они всегда и всем недовольны. Но вы же... вы простой русский человек, вас не могла тронуть ржавчина крамолы. Вы не можете не быть преданы престолу царя, помазанного на царствование самим богом..."
Якутов тряхнул руками, звякнули наручники.
"А я, ваше превосходительство, всегда... - Он долго подыскивал слово, - обожал, так, что ли, сказать, нашего царя Николая Александровича... Особо после Девятого января пятого года, когда перед его дворцом было убито нашего брата больше тысячи человек да несколько тысяч ранено. Тут он, сам-то царь, без божьей помощи разве управился бы? Да ни в жизнь. Тут без божьего соизволения где же одному человеку управиться? Даже ежели у него помощнички вроде вас..."
Глаза у председательствующего снова стали холодные, не пускающие внутрь, и опять в них скользнула ненависть, чуть-чуть приправленная страхом.
"Уведите!"
Когда Якутова вели с суда через тюремный двор, арестанты-плотники уже кончали сооружать виселицу. Ему запомнились желтые щепки на белом пушистом снегу, блеск топора в луче электрического фонаря, скрип шагов. И где-то далеко-далеко за тюремной стеной - лай собаки и ржание жеребенка.
С порога корпуса он оглянулся на виселицу и усмехнулся: вот он, "суд скорый, правый и милостивый". Приговор еще не был вынесен, еще не было прочитано: "К смертной казни через повешение", а виселица уже строилась... Шемякин суд!
Когда за ним с ржавым скрежетом захлопнулась дверь камеры, он снова подумал: "Хорошо, что ни Наташка, ни дети ничего не знают..."
5. "БЕЖАТЬ БАТЕ ИЗ ТЮРЬМЫ НАДО"
Он ошибался - жена уже многое знала. И знала давно. Еще в конце октября, когда поздно вечером она вернулась с фабрики и, покормив детишек, укладывала их спать, в дверь осторожно стукнули три раза, - так, бывало, стучали к Ивану только друзья.
В комнатенке, куда Якутовы перебрались после исчезновения Ивана Степановича, на столе чадила остатками керосина трехлинейная лампа; от ее света по бревенчатым стенам расползались лохматые тени.
Самая махонькая дочка Наташи, которая родилась уже после того, как пропал Иван, - ей недавно исполнился год, - только что уснула, и мать сидела над ней понурившись, безрадостно думая о будущем.
От друзей мужа, оставшихся в мастерских, она знала, что Иван бежал от жандармов и где-то возле разъезда Воронки ему удалось взобраться на ходу в тамбур идущего в Россию товарняка, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.
Боже мой! Сколько раз в бессонные ночи Наташа представляла себе, как ее Ванюшку где-то далеко, в неизвестном городе, выследили и схватили жандармы, избили и оттащили в тюрьму и там судили, приговорили ему каторжный срок...
Изредка к ней из мастерских наведывались узнать, не было ли весточки, передать что-нибудь съестное детишкам. Слава богу, не забывают. Приходили и женщины - кто-кто, а уж женщина в беде куда больше понимает, чем любой мужик. Они-то, бабы, и рассказывали, как свирепствуют по всему Уралу и Сибири царские суды.
Однажды пришла жена паровозного машиниста, сгинувшего в те же дни, что и Ванюшка, Даша Сугробова, - тоже осталась без мужика сама-четыре и тоже нанялась на чаеразвесочную. Худая и черная, с провалившимися щеками, злая на мужа и на всех кругом, она рассказывала Наташе:
- Я ведь, как и ты, Натка, с моим извергом до Уфы в Иркутске жила, там наши мужики и сдружились, поломал бы им черт ребра за эту дружбу. И вот, помнишь, захаживали к нам да и к вам, наверное, из Верхне-Удинска токарь Иван Седлецкий, машинист Носов да еще еврейчик такой - смотрителем в складу на железке работал, по фамилии Гольдсобель вроде? Слыхала? Ну так вот какое с ними сталось. Приехал туда, значит, судья - фамилия ему Ренненкампф, немецкая вроде...
Наташа, поглядывая то в занавешенное дерюжкой окно, то на спящих детей, слушала, стиснув на коленях руки.
- Ну вот... Этот самый Кампф - вот гляди, все немцев подряжают над русским рабочим расправу чинить, - вот он и приговорил то ли девять, то ли десять к виселице.
- А за что? - вздрогнула и выпрямилась на стуле Наташа.
- А все за то же. За что и наших с тобой дураков судить будут, ежели поймают. А у этого Гольдсобеля жена про все узнала, про суд, значит. И заявилась она чуть свет к этому Кампфу и к его помощникам... А жили те не в городе - народу боялись. Как приехали из Харбина целым поездом, так и жили в вагонах за вокзалом, а возле вагонов круглый день часовые с ружьями, а может, и с бомбами... Ну, она, Гольдсобелиха-то, собрала своих пятерых, мал мала меньше, да туда, к вагону. Дескать, вот поглядите, ваше генеральское превосходительство, как я теперь одна с ними буду? Упрямая такая, вроде староверки. Встала на коленки перед вагоном прямо в снег и детишек в ряд поставила: помилуйте, дескать, моего дурака, ваше превосходительство. С вечера так до утра и стояли... А утром Кампф проснулся, значит, сидит у окошка, кофий пьет и вдруг глядит - она. "Кто позволил? Кто разрешил? - кричит. - Прогнать жидовку штыками! И жиденят тоже! Аппетит, дескать, мне сничтожают..." Ну и прогнали...
Наташа неподвижно смотрела на огонек лампы.
На хозяйской половине заливисто храпел кто-то, шуршали в стенных пазах тараканы, глухо стучала за окошком деревянная колотушка сторожа, изредка злобно взлаивали псы.
Рассказ Даши Сугробовой часто вспоминался Наташе в долгие, томительные, без сна ночи. Хотя и уставали на фабрике за одиннадцать часов до изнеможения, хоть и ныли всеми косточками спина и ноги, сон не шел и не шел. И все думалось про Ивана: где, что с ним?
А слухи ползли и ползли, одни тревожнее, страшнее других. Во всех больших городах по железной дороге идут суды над машинистами и кочегарами, над слесарями и токарями - за декабрьскую смуту, за Советы, которые против царской воли выбирали, за восьмичасовой день.
А ведь и их, мужиков, пожалеть надо бы - не железные. Бывало, Ваня придет со смены - так, не сняв обуток, и валится в сон. А утром - спать бы да спать - уже ревут гудки окаянные; опять краюшку в рот и бежать - на весь день, до позднего вечера...
В тот октябрьский вечер, когда к ней пришли с первой весточкой об Иване, она, уложив детей, села к столу у самой лампы и латала сыновьи штанишки. Он, Ванюшка, лазая по шлаковым отвалам и выбирая оттуда уцелевшие куски угля, всегда так изгваздывается - не приведи бог.
Дети спали на полу, на постланной одежонке, подложив под голову старый, промасленный отцовский пиджак.
Уронив на колени шитье, заслонившись ладонью от лампы, Наташа всматривалась в худые лица детей.
Как вырастить их, как довести до дела? Ванюшка вон какой тощой стал! Может, и впрямь отдать его в подмастерья к дяде Степанычу - портные завсегда в достатке живут...
В дверь стукнули условным стуком.
Кто? Кто там?
Она вскочила, прижимая к груди руки. А может...
Поспешно распахнула дверь. Из сеней дунуло крутой осенней стужей билась и крутилась в улицах первая в том году метель. Снежная крупа секла стекла окошек, белела сугробами у заборов.
- Кто? - спросила Наташа, силясь разглядеть в полутьме лицо пришедшего.
- Залогин это, Наталья... - Сняв у порога шапку, пришедший отряхнул ее от снежной крупы, отряхнулся сам. - Ребятишки спят?
- Ага. - Наташа смотрела на Залогина с тайным страхом и в то же время с надеждой: сердце подсказывало, что пришла весточка от Ивана. Проходите, Матвей Спиридоныч...
- Пройду, пройду. - Залогин отер сивые, по-хохлацки свисающие усы, осторожно покашлял в кулак. - Как живешь, Наталья? На фабрике не забижают?
- А уж больше куда же забижать, Матвей Спиридоныч? И рады бы, наверно, да некуда... Проходите сюда, Спиридоныч. Чаю не заварить вам?
Залогин уселся у стола, посматривая вниз, под ноги, где разметались на полу дети.
- Чай-то поворовываешь, поди? Обижаешь господина Высоцкого?
- Обыскивают дюже, Спиридоныч. Боюсь.
- Боишься-то боишься, а ишь сколько заварила...
- Жить-то надо...
Наташа сунула в недавно протопленную, еще не остывшую печурку фарфоровый чайник с отбитым носиком, суетясь без меры, боясь рассказа Залогина.
- В мастерских как, Спиридоныч?
- А так же, как до пятого. Только еще больше прижали нашего брата. Обыски бесперечь, дознания всякие, зачинщиков ищут... Того и гляди, там же очутишься, где твой Иван...
Наташа обмерла.
- Неужто взяли? - Она задохнулась от этих двух слов.