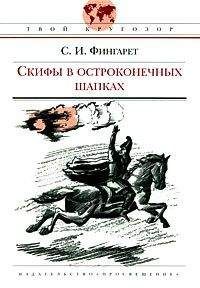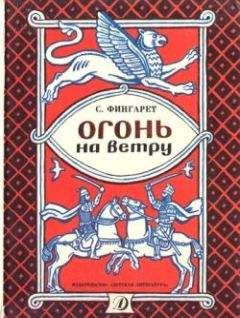Невиданным жаром сверкали расшитые блёстками скатерти. Блестели золотые и серебряные нити полавочников. Стены, расписанные травами, напоминали цветущую весеннюю степь. Золототканая парча боярских шуб переливалась, как самоцветы.
Синее, красное, жёлтое, голубое. Золото, камни, соболий и куний мех.
Под самым потолком, выше бояр, сидевших на лавках и стоявших вдоль стен, выше самого великого князя, огромный Георгий Победоносец пронзал тонким и длинным копьём извивавшегося змея.
И Русь и Орда знали: Георгий Победоносец являет собой нерушимый Московский герб.
Василий Дмитриевич сидел в резном прадедовском кресле, приподнятом над полом двумя широкими ступенями. Голову великого князя венчала шапка с алмазами и яхонтами по околышку из бобров. Плотную фигуру стягивал кафтан из турецкого атласа с золотыми травами и лазоревыми цветами. Спереди и вдоль рукавов был нашит крупный жемчуг. На шее висела тяжёлая золотая цепь.
Гордым и неприступным выглядел великий князь. Посол поклонился, сопроводив свой поклон целованием пола между ладонями.
Князь в ответ едва наклонил голову. Его кивок одинаково можно было принять и за милостивый и за небрежный.
Князь выжидал. Он хотел знать, с чем прибыл посол: с войной или миром.
– Хан, повелитель Вселенной и Всемогущий Едигей желают тебе, своему улуснику на Москве, добро здравствовать и напоминают, что пора слать дань – выход. Срок выхода истёк, – проговорил посол.
– Повелитель Вселенной и Всемогущий Едигей шлют тебе, великий Московский князь, тысяча и один поклон, – перевел толмач сказанное Мирзой.
«Мал, кривобок, а по глазам видать – хитрый старик, – подумал Василий Дмитриевич о толмаче. – И борода козлиной подобна». Василий Дмитриевич знал татарский язык и в толмаче не нуждался. Но от ордынцев это скрывал, предпочитал выслушать обоих, говоривших об одном и том же. Подобная уловка всегда приносила пользу. Вот и сейчас посол говорил задиристо, а толмач смягчал сказанное. Означало это одно: Орда пугать пугала, а нападать пока опасалась.
«Хорошо бы ещё годов десяток в мире пожить. За десять лет совсем бы окрепли, ордынские цепи бы сбросили. Да Едигей не хуже нас это понимает». Размышляя, Василий Дмитриевич перевёл взгляд с толмача на молодого ордынца с недобрым и напряжённым лицом. Молодец стоял неподвижно, как истукан. На уровне груди он держал ларчик, обитый кожей.
– Страх перед повелителем Вселенной должен ты иметь. Орда тебе ярлык на княжение выдала, – говорил посол. – Выход в Орду отправляй немедля. О том и в письме великого Едигея говорится: «Долзно тебе, великий княсь, не задерзивать выход. По милости повелителя Вселенной ты имеешь краснопечатный ярлык».
Полтораста лет владели Русью ордынцы, считали своим улусом. С тех самых пор, как прошёл Батый огнём и мечом по стране, обязалась Русь платить Орде выход. Так было и будет, думали в Орде. Напрасно Москва подняла голову, обрадованная победой на Куликовом поле. Кто высоко занёсся, тому тяжелей падать.
Мирза кивнул молодому ордынцу. Тот вышел вперёд, упал на оба колена и, наклонив голову до самого пола, протянул великому князю ларец.
Василий Дмитриевич не шелохнулся, не подал знака принять.
На лице посла задвигались скулы. Бояре притихли, даже ближние не всегда понимали, что руководило иными поступками князя. А он нарочно сердил посла, чтобы Орда знала: Москва ныне не та, Орды не боится, не раболепствует перед ней.
Тишина в Посольской палате сделалась страшной. Казалось, сейчас Мирза закричит. Но вместо того раздался спокойный и ровный голос великого князя:
– Иван Фёдорович, почему медлишь, не принимаешь ларец, присланный Всемогущим?
Иван Кошка взял у ордынца ларчик, открыл. Кроме пергамента, испещрённого крупной арабской вязью, в ларце ничего не было. Вопреки обычному, подарка к письму Едигей не прибавил.
– Читай! – приказал Василий Дмитриевич.
Иван Кошка сорвал тамгу – вислую красную печать. Пергамент раскрылся с лёгким, чуть слышным похрустыванием.
«Писан в год Курицы, во второй месяц лета, в день шестой, – принялся читать Иван Фёдорович, бегло переводя арабский текст. Собственной письменности у ордынцев не было, пользовались арабской. – От Едигея поклон Василию. Слышание наше таково, что неправда у тебя в городах чинится. А прежде улус страх держал, и пошлины и послов ханских чтили и держали без обид. Сам ты в Орде давно не бывал, ни сына, ни брата не присылал, ни старшего боярина. Добрые нравы и добрая дума и добрые дела были от боярина Фёдора Кошки. Но это время прошло. Теперь у тебя сын его Иван, казначей твой и любимец. Старейшина. Без его слова и думы ты не выступаешь… – Зелёные глаза Ивана Кошки засветились, как у настоящего зверя, когда он читал эти слова. – А от плохой думы улусу твоему придёт разорение, и люди изгибнут. Так ты впредь поступай иначе, молодых не слушай, а собери старших своих бояр: Илью Ивановича, Петра Константиновича, Ивана Никитича, да многих других стариков земских и думай с ними добрую думу».[3]
Иван Фёдорович кончил читать и свернул свиток. Взгляд, который он бросил при этом на князя, был весел, словно казначей хотел сказать: «Крепко побил ордынцев пресветлый твой батюшка, князь Дмитрий Донской, коль не приказывают они Москве, а просят». Однако ответного взгляда не последовало. Князь оставался замкнутым и неприступным.
– Благодари Всемогущего Едигея на добром пожелании, – проговорил он ровным голосом. – Выход вскорости соберём. Повезут Илья Иванович да Пётр Константинович, раз они Едигею любы. Со временем и я в Орде побываю.
Мирза хотел возразить, но великий князь сделал знак, встречники окружили посла с его свитой и вывели из палаты. Только ордынец, что подал ларец, не вышел со всеми, а продолжал стоять на коленях перед креслом Василия Дмитриевича.
Василий Дмитриевич недоуменно вскинул брови.
– Не гневайся, государь, коль что не так, – торопливо вышел вперёд Иван Никитич Уда. – Я, худородный, повинен, не упредил тебя. Этого молодца, – Иван Никитич ткнул посохом в ордынца, – Едигейка тебе прислал.
– Чем же отличен сей молодец, что его подарком шлют?
– Отличен, государь, как есть отличен. Глухонемой он, не говорит, не слышит. На одни знаки откликается. Толмач о нём сказывал, что стража – вернее не сыскать. Поставь у хором – глотку перегрызёт, а незваного гостя не впустит.
– Верно, что глухонемой?
– Не изволь сомневаться, государь. Юрий Холмский его по Орде знавал, подтвердил.
– А вот мы сейчас проверку устроим, – Иван Кошка зашёл за спину ордынца и со всей силой ударил подсвечником в медное блюдо. Грохот раздался такой, что паникадила на потолке закачалась. Все, кто был в палате, вздрогнули и обернулись. Один ордынец не шелохнулся.
– Не слышит, – удовлетворённо сказал великий князь. – Проверить, не умеет ли читать-писать.
Думный дьяк Тимофей подал немому берёсту и писало. Немой посмотрел с удивлением, пожал плечами. Тимофей сделал вид, что пишет. Немой отрицательно покачал головой.
– Вот и ладно, – сказал Василий Дмитриевич. – Соглядатаев из Орды у нас предостаточно. А этот коль что и прознает, всё одно передать не сможет. Надобно Едигею поклониться ответным подарком немалым. Распорядись, казначей, – Василий Дмитриевич встал, чтоб покинуть палату. Обитая красной кожей дверь на больших медных петлях раскрылась перед ним, словно сама собой.
* * *
В Земском приказе Пантюшку с Фаддеем протомили долгое время. Рыжебородый дьяк с толстой нижней губой выспрашивал, кто такие, чем занимаются.
– Гончарю, в Гончарной слободе живу, вместе с девочкой-малолеткой. Медведь её собственность, – отвечал Пантюшка.
– Что правда, то правда, – частил Фаддей. – Как есть правду-истину сказывает малый. В одном только путает: медведь мой. Хоть у сродника моего спросите. Он и в дом-то медведя впустил как моего друга или брата кровного.
– Правда ль это? – спросил земской дьяк у Пантюшки.
– Что в дом медведя неправдой ввели, в том правда, а что медведь Фаддеев, в том неправда.
– Правда-неправда, не разбери-пойми вас. – Дьяк оттопырил нижнюю губу, и без того свисавшую над бородой, и брезгливо добавил – Судитесь полем.
– Дурной ты человек, Фаддей, – сказал Пантюшка, когда, покинув приказ, они очутились на площади. – И Устинька из-за тебя прохворала всё зиму, и Медоеду сидеть под замком.
– Не я дурной, времена дурные. Времена получшают, и я лучше стану, а покуда – прощай. Не забывай Медоедке приносить кашу, мне будет недосуг. – Фаддей глумливо рассмеялся и исчез в кремлёвском многолюдье.
Пантюшка заторопился домой. «То-то Устинька обрадуется, что нашёлся Медоед, – размышлял он на ходу. – „Поле“ я выиграю. Как не выиграть – правда на моей стороне. А вдруг случится неладное, вдруг не выиграю? Что с Устинькой тогда будет?» Не успев додумать страшную мысль, Пантюшка увидел ордынцев. Одно на другое пало: рядом с насупленным важным Мирзой ехал вертлявый старик с худосочной белой бородкой.