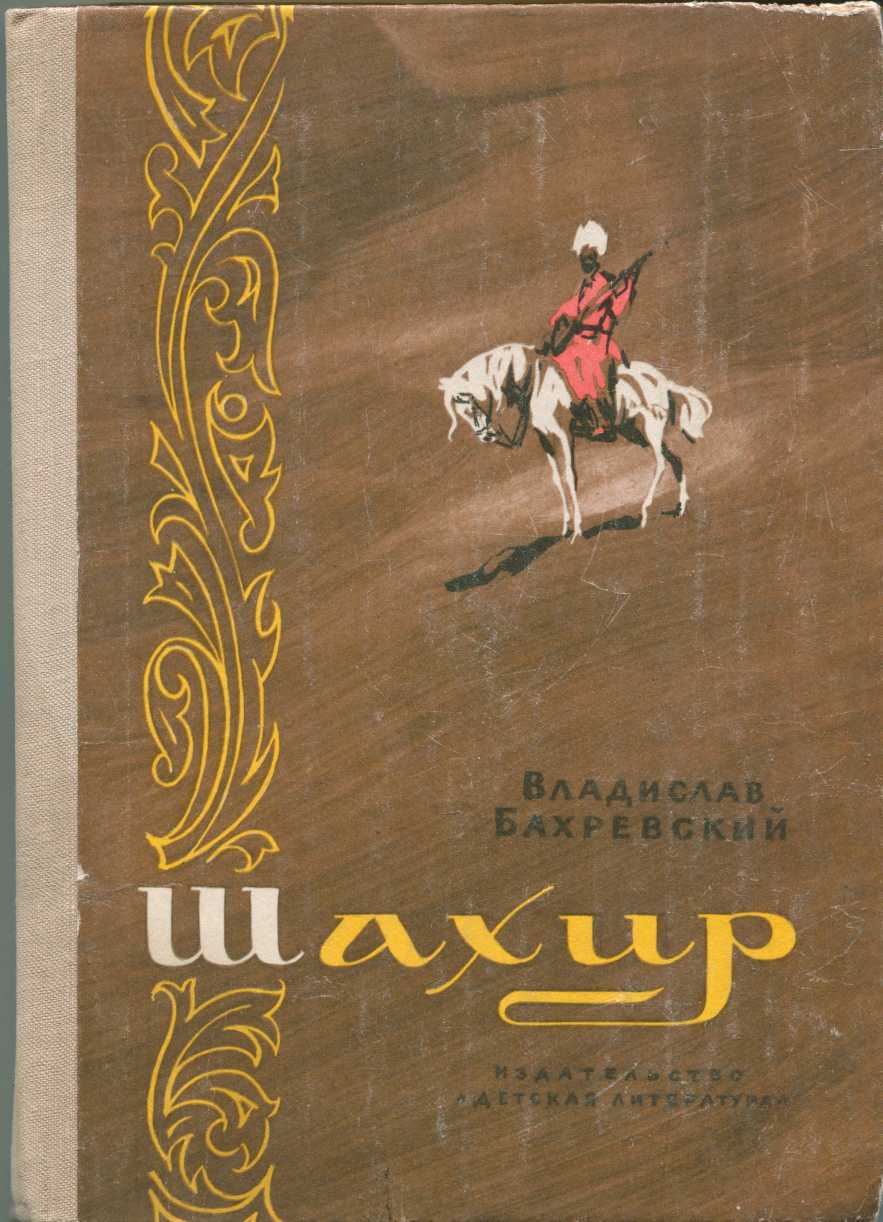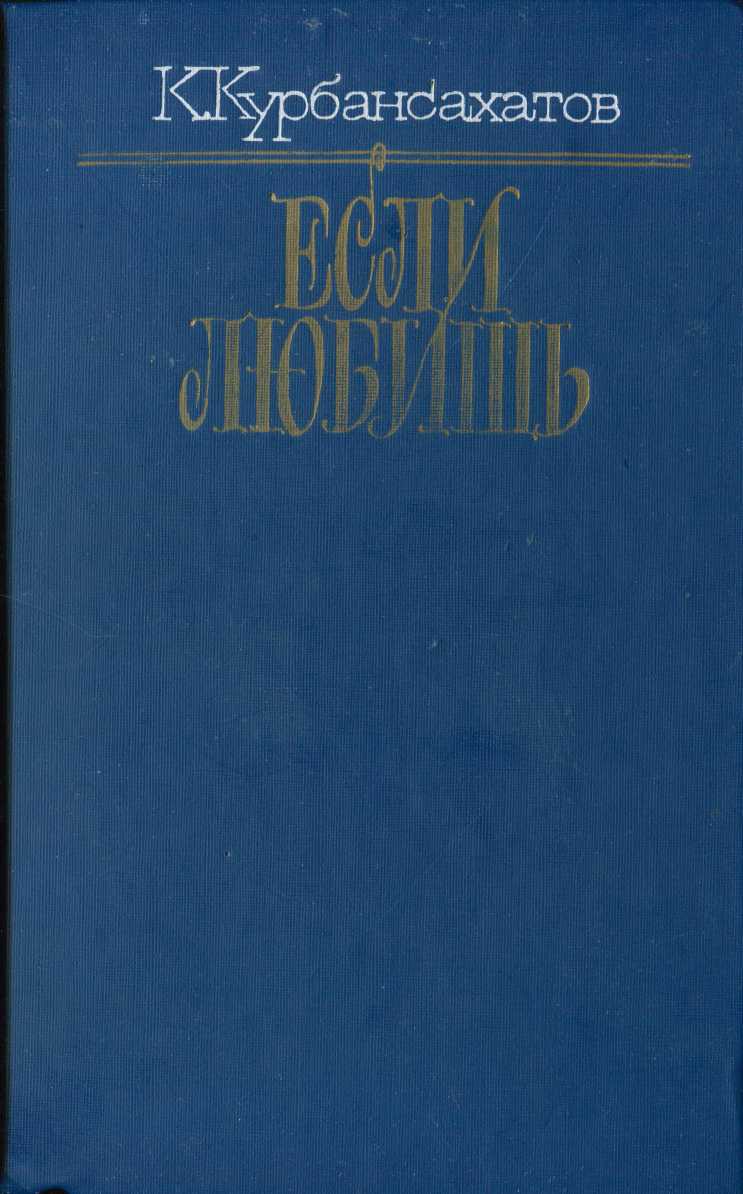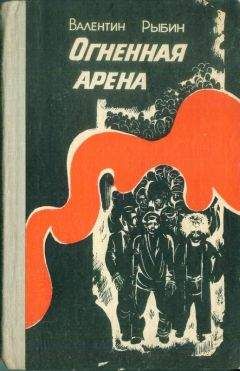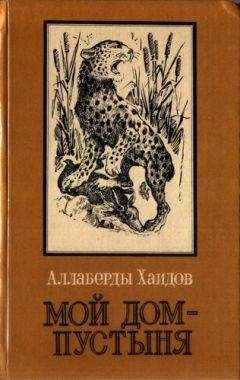вглядывался в манящую синюю даль, но даже заговорить о путешествии не осмеливался. Отец не пустит, он переполнен горем по своим старшим сыновьям. Он плачет ночами. Молит аллаха. Он все еще надеется, что Мухаммедсапа и Абдулла вернутся.
— Я на охоту! — сказал Махтумкули отцу, взял лук, по забыл взять стрелы.
Он взбежал на первую гряду, но не пошел по тропе. Тропа вилась с гряды на гряду по гребешкам, Махтумкули спустился в ложбину, чтоб скрыться от глаз. Он был как цветущее дерево, в котором роится тысяча ульев.
— Я — цветущее дерево! — шептал он сам себе, и ему казалось, что воздух, сталкиваясь с ним, звенит, искрит.
Юноша почти бежал, но он — охотник — умел не потревожить тишины. Редкий камушек срывался из-под его ноги.
«Эти горы, как морщинки на челе земли», — подумал Махтумкули и остановился.
Сердце билось звонко, оно пело, как хорошо натянутые струны дутара.
Огляделся — никого: ни людей, ни зверей, ни птиц. Сел в тень, на круглый камень, почерневший от зноя.
«Его века спалили!» — пронеслась в нём строка, как стрела.
Вот так же он убегал от взрослых в детстве. Не от работы убегал, а чтоб побыть наедине. Он затаивался, разглядывая какой-либо камушек, ожидая, что через этот самый обычный камушек откроется ему вдруг неведомая людям, но изумительная тайна.
Махтумкули достал спрятанный на груди свиток — подарок Нияз Салиха, который ушел-таки на свою родину, в верховьях Амударьи, и принялся читать вслух, наслаждаясь не родным, но сладкозвучным фарси.
Мудрецы, что жемчужину смысла сверлили,
Что о сущности мира всю жизнь говорили,
Главной нити в основе основ не нашли,
Суесловили много — и все опочили.
Ты коварства бегущих небес опасайся.
Нет друзей у тебя, а с врагами не знайся,
Не надейся на завтра, сегодня живи.
Стать собою самим хоть на миг попытайся.
Эти стихи были про него и для него, и, подхваченный невесть какой силой, Махтумкули вышел из своего укрытия на солнце. Сначала пошел, а потом побежал. Ему нужно было утомить себя, потому что все в нем требовало действа, но какого? Он не знал, что ему нужно совершить. Свернуть, что ли, гору со своей дороги? Но сила, наполнившая его, была доброй. В нем все протестовало от одной только мысли — сломать. Мир казался ему совершенным.
— Все, что есть в этом мире, пусть будет всегда! Все живое пусть будет живо!
Наступи он в то мгновение на муравья — расплакался бы.
Сделав круг по горам, ноги принесли Махтумкули в гранатовое ущелье. Здесь он пробрался между камнями и колючими зарослями плодовых деревьев и кустарников в свое любимое место. Два камня, когда-то слетевшие с вершины, уперлись друг в друга лбами и застыли. Получился каменный шалаш.
Махтумкули опять достал свиток со стихами, переписанными рукой Нияз Салиха. Многие из этих стихов Махтумкули знал наизусть, но ему нравилось перечитывать их. В начертании букв жила добрая улыбка, светились мудрые глаза Нияз Салиха.
В родных горах Махтумкули стало тесно, ему хотелось в дорогу, к людям, которые, подобно Нияз Салиху, посвятили себя поискам знаний. Махтумкули мечтал о мудрых учителях, о возвышенной мужской дружбе с людьми, для которых поэзия была сама жизнь.
Он прочитал стихи. Как всегда, вслух:
Кровь, как река Джейхун, в сердце
влюбленных бьет.
Таинственный Джейхун, как пену, нас
несет.
Жизнь — мельница. Любовь вращает колесо.
А там, где нет любви, и колесо замрет.
Прочитал и замер. Он вдруг почувствовал, что не один в своем уединении. Повел глазами — тень человека на земле перед его каменным шалашом. Рука потянулась к луку, но Махтумкули тотчас вспомнил, что забыл взять колчан.
«Кто же это следит за мной? Лазутчики кызылбашей?» — поискал подходящий камень, но краем глаза вдруг разглядел: тень, напугавшая его, — тень женщины.
Он принялся разворачивать свиток, делая вид, что ищет стихотворение, и вдруг вскочил и вышел из укрытия.
— Ой!
На камне, загородившись цветущей веткой граната, стояла девушка. Она забралась сюда, видно, для того, чтоб сорвать цветок, и тут появился он, и ей пришлось затаиться.
— Ой! — вскрикнула она опять, закрывая лицо широким рукавом платья.
Заметалась, не зная, как спуститься с камня, потому что удобные уступы были там, где стоял Махтумкули. Он попятился, освобождая для нее безопасный путь, и она поняла это. Смерила взглядом расстояние — не схватит ли ее джигит? Он отступил еще. Она скользнула вниз и, словно яркая птица, полетела по зелени зарослей. Исчезла, переходя ручей, появилась на другом, высоком берегу. Обернулась. И стала вдруг медлительной в движениях, не пошла — понесла себя тропой к аулу. Голова, как у джейрана, заносчивая, на высокой шее, станом тонкая.
Махтумкули закрыл глаза, чтоб удержать в памяти черты прекрасного лица пери. Ниточки-дуги черных бровей, черные сверкающие глаза, лицо матовое, светящееся изнутри, губы розовые, добрые, змейка рта изогнута, словно девушка собиралась шепнуть манящие слова.
— Богом радость мне дана! — воскликнул Махтумкули, и звук наивной строки ударил в самое его сердце, и сердце отозвалось.
Богом радость мне дана!
Взор упал мой на желанную…
Ах, это не было поэтическим преувеличением. Стихи подхватили его, повели от рифмы к рифме по своим дорожкам.
Локон твой душист и густ;
Взор — алтарь, и он не пуст;
И кораллы влажных уст
Глубью дышат океанною.
О запретная, приди,
Ты на раны погляди.
И прильни к моей груди, —
Дай мне видеть богоданную!
Он повторил про себя стихи, и они показались ему лучшими из всего сложенного им раньше.
Ты джейран: легка, стройна,
Меда речь твоя полна;
Ты — как полная луна
Над равниною безгранною!
Такие стихи нужно было записать, пока не улетели, как девушка. Махтумкули, торопясь, перебрался через ручей и пошел к аулу, а стихи все еще гудели в нем, рождали новые строфы.
Гиацинт твоих волос
В сердце песню мне занес;
Соловей я: райских роз
Вижу гроздь благоуханную.
От страданья исцели,
Красотою утоли:
Душу душ Махтумкули
В милой видит осиянную!
Он успел записать всего две строфы, вошел в кибитку отец, совсем